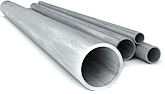Деревянная дощечка с металлической полоской достоевский
Обновлено: 04.10.2024
Вещи и вещества
наравне с людьми становятся героями текста.
Человек и мир уравниваются друг с другом через общее свойство существования и вещественности. Слышен голос живущей в материи души. Вещи становятся загадочными, прозрачными, подвижными, а тело человека предстает как тайна, как покров, наброшенный на душу страдающую и грезящую о будущем спасении.
Анализ романов Достоевского дает основание говорить о теме порога смерти-рождения и тех символах, которыми этот порог обозначается.
От внешней формы вещей Достоевский идет к веществу, из которого они состоят.
Авторский мир
жив сцеплением не сразу заметных, но очень важных символических подробностей, именуемых «символами Достоевского».
Выявляются они вполне
традиционным образом:
регулярность появления
одних и тех же элементов
в сходных ситуациях.
Герои Достоевского непременно
проходят через испытание,
«символический порог»: убийство,
самоубийство или принятие важного решения (например, признание Раскольникова).
Начать лучше с самой ситуации символического порога, с того, что Достоевский в «Братьях Карамазовых» назвал «такой минуткой».
«Такая минутка»
Ситуация порога без смерти не обходится.
Но в «Преступлении и наказании» она
приходится не на момент убийства
(сюжетный пик), а на время подготовки
к нему.
Всё решил случай. Лишь благодаря
случайно найденному топору
Раскольников смог свершить
свое преступление.
«Не рассудок, так бес!» — подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно»
Весь его путь к квартире старухи — это путь не столько куда-то, сколько сквозь нечто, сквозь постоянно ощущаемую преграду, сквозь слабость, сомнение, неуверенность.
«Такая минутка»
Случай-бес помог ему переступить порог: это можно сопоставить со вторым порогом, который Раскольников преодолевает уже самостоятельно, делая признание в судебной конторе.
В свои пороговые минуты Раскольников усмехается и ощущает прилив энергии и решительности.
Смех как знак рождения-смерти устойчив в мифологии. Усмешки героев в момент переступания порогов рождения-смерти метафорически подтверждают значимость происходящего в них душевного переворота.
Чистое белье
Способ, которым символика чистого
белого заявляет о себе в романах
Достоевского, выглядит очень
необычно.
Осуществить задуманное Раскольникову помешала прачка.
Он уже занес ногу, чтобы переступить «порог», когда возникло некоторое замешательство. Войдя в кухню за топором, он увидел, что
«Настасья не только на этот раз дома, у себя на кухне, но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках!»
Чистое белье
После убийства Раскольников
сталкивается с чистым бельём
уже на квартире старухи: отмыв
кровь, он затем «все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню».
Свидригайлов перед самоубийством
видит во сне мертвую девочку
в «белом тюлевом платье»,
лежащую на столе,
покрытом «белыми атласными
пеленами».
Чистое белье
Появление «чистого белья» приходится на пороговые точки, через которые проходят герои. Это новые белые обои в старухиной квартире и свежевыкрашенная и побеленная комната, где сразу после убийства прятался Раскольников и т.д.
«Удвоенное» чистое белье в судьбе Раскольникова и, особенно, его возвращение в старухину квартиру, после убийства, когда квартира уже оклеена новыми белыми обоями идет как намек на возможное возрождение или излечение…
Тлетворный дух
Запах тления тела — самый странный и загадочный. Он несёт идею противоестественности, чудовищности того, что тело человека может тлеть.
Телесность — основа появления запаха тления: есть мертвое тело, будет и дух. Это «ожидание» сбывается в форме намека в моменты наивысшего напряжения смысла.
Пример:
В эпизоде самоубийства Свидригайлова есть мертвое тело, но не самоубийцы, а теленка («порция телятины»). Мухи, налепившиеся на лежащий кусок холодного мяса, — еще не тлетворный дух, но уже явный намек на него.
Тлетворный дух
Однако смердящее тело таит в себе загадку, возможность чудесного восстановления. Глагол «смердить» упомянут в притче о Лазаре, пересказанной Достоевским почти дословно:
«То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дни, как он во гробе» (Иоан. 11 38, 39)».
Тема о воскресшем Лазаре как символ обновления нравственного; но есть и намек на телесный смысл.
Тлетворный дух
Пример:
Тяжелый дух появляется в финале. Раскольников задыхается от «спертого духа» конторы, выходит на улицу и, возвратившись, делает свое признание.
Для Достоевского мертвое тело — дверь, ведущая в пространства надежды. Запах смерти тяжек, но вместе с тем Достоевский слышит в нем и голос надежды.
Когда герои стоят перед порогом или переступают его, запах подталкивает к действию, оценивает, предостерегает.
«Заклад» Раскольникова
Символические предметы:
железный топор,
медные и деревянные нательные кресты,
медный колокольчик в квартире старухи,
камень на Вознесенском проспекте,
бумага (Евангелие и деньги)
«серебряный» заклад.
«Заклад» Раскольникова
Колокольчик из странной меди:
«Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди».
После убийства Раскольников
«взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук!»
Колокольчик медный, а звук имеет жестяной: одно выдает себя за другое.
Заклад есть, и его нет: «Серебряная папиросочница» собрана из деталей, создающих её иллюзию.
«Заклад» Раскольникова
В топоре — смысловая подмена. Новый топор Раскольникова — уже не инструмент его воли, идеи, а подлог случая-беса. Топор взят из-под земли (дворницкая) и наделён самостоятельной злой силой. Настоящий (кухонный) топор мог оказаться неподъемным! Подставным же Раскольников действовал
«почти без усилия, почти машинально», «силы его тут как бы не было».
Сила шла от подложного топора с минуты его обретения Раскольниковым, который ободрился при этом «чрезвычайно». В словах Раскольникова о том, что не он, а черт убил старушку — мотив навязанности действия и намек на неслучайность происшедшего: старуха-«ведьма» убита бесовским топором.
«Заклад» Раскольникова
Дважды тело уподобляется дереву. Сначала «деревенеют» руки Раскольникова, нащупывающего топор, затем старуха
«даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная».
Мотив разрубания, колки дров, раскалывания дерева уже задан, когда Раскольников находит свое орудие среди поленьев.
«Заклад» Раскольникова
Нательные кресты: путаница; настойчивое описание.
Образок старухи вносит в дело беспорядок.
«На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок». Финифть «превращается» в серебро. Когда Соня достает два креста, Раскольников замечает:
«Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок».
Странное устройство фразы (к чему относится слово «серебряный»?) и упоминание именно двух крестов. Ощущение, что не только Раскольников, но и Соня все время ходила без креста: в конце она один крестик надевает на себя, другой отдает Раскольникову. Похоже, Достоевский был столь поглощен мыслью о крестах, что в какой-то момент потерял их из виду.
Смысловые линии: символическая (христианская тема Креста и путь страдания Раскольникова и Сони) и «натуральная».
Все перечисленные вещества и вещи образуют кольцо, в центре которого — ложный заклад. В нём скрыт намек, помогающий понять произошедшее.
Заклад Раскольникова — свернутый сюжет убийства и его последствий. Это репетиция убийства.
Главные части «заклада» — деревянная дощечка и железная полоска.
Дерево представляет тело человека:
______ непосредственно — в уподоблении рук убийцы и тела ______ его жертвы дереву, и
______ опосредованно — в материи нательных кипарисовых ______ крестов, где связь с телом идет через тему телесной ______ муки Христа, а также через близость — «нательный» ______ крестик.
Железо — топор, которым убиты старуха и ее сестра.
Деревянная дощечка и железная «гладкая» полоска заклада — натуральное «изображение» тела жертвы и орудия убийства.
Нитка с тесемкой.
Тесьма держит настоящий топор, спрятанный под пальто, и тесьма же скрепляет топор символический, условный, спрятанный в закладе.
Тема крестов неожиданно просачивается в устройство заклада: деревянная дощечка (тело жертвы) и прижатая к ней металлическая полоска-топор были связаны друг с другом «крест-накрест ниткой», а бумага-одежда была замотана «тесемочкой, тоже накрест».
Тема креста, крестного страдания, пере-крестка, на который выйдет в конце концов Раскольников, чтобы объявить о своем преступлении миру, тема крестного пути убийцы и блудницы, наконец, тема двух нательных крестов объединяются и — тесьмой и ниткой ложатся крест-накрест на «плоть» и «одежду» раскольниковского заклада.
Железо и медь
Железо
Мужской металл, недобрый, разрубающий, разрезающий плоть. Убийство топором — «классическое», поражающее страшной выразительностью и жестокой нелепостью. Орудие действует само: достаточно лишь поднять его.
Фамилия главного героя в буквальном смысле:
Раскольников раскалывает жертву топором как полено, как «идею». Поворот топора с обуха на острие: он начинает осознавать себя, превращаясь в орудие раскалывания. В самом начале: «Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок»; топор взят из дворницкой, где лежал между двумя расколотыми поленьями. Раскольников, спрятав топор на своем теле, под одеждой, сливается с ним. Отмывает топор мылом, взятым с расколотого блюдечка.
Раскольников со своей смертоносной идеей в самом деле похож на топор, а его каморка — вытянутая и узкая — не только «гроб», но и «футляр» для хранения инструмента.
Железо и медь
Медь
Благая роль. Женский металл. Свидетель трагедии. Противостоит агрессивному и беспощадному железу, как металл мягкий, защищающий, сострадающий, утоляющий боль. Церковность и государственность: «медь Богу и царю честь воздает». Смысл церковного колокола. Где колокол — там и звонарь. В многократном возвращении Раскольникова к колокольчику — желание поведать миру о преступлении. Впечатление, что медь ничего не даёт Раскольникову, но:
его случай не безнадежен (есть духовные силы для возрождения);
старухин медный колокольчик звучал как жестяной; он сопоставим с подложным топором.
Пример:
Самоубийство Свидригайлова напротив медной каски пожарника. Медь помогла переступить порог. Шлем пожарника попадает в колокольный ряд: похож на колокол (формой, веществом и названием: «шлем» — тело колокола).
Итак: медь — колокол, напоминает о колоколе; железо — оружие, «топор», напоминает об оружии.
Камень на Вознесенском проспекте
Несокрушимость и тяжесть. Для Достоевского более важен второй смысл: камень может придавить своей тяжестью, преградить путь, похоронить под собой (камень — синоним могилы, надгробная плита). Сопоставим с железом с той разницей, что если железо подчеркнуто агрессивно (поражает и убивает), то камень тихо враждебен (хоронит под собой).
Узнав о самоубийстве Свидригайлова, Раскольников чувствует, что «на него как бы что-то упало и его придавило». Он и его идея придавлены камнем: в «могилке» на Вознесенском проспекте лежат тлеющие деньги, на Раскольникова давит камнем ощущение вины.
Камень на Вознесенском проспекте
Следователи, с которыми встречается Раскольников, имеют каменные имена: Илья Петрович и Порфирий Петрович (Пётр – с греч. «камень»). Последний давит на Раскольникова, зная, что из-под гнета совести ему не выбраться Помимо бросающейся в глаза «порфиры», имя «Порфирий» соотносимо и с «порфиритом» — твердой горной породой из рода базальтов.
Из-под камня на Вознесенском проспекте достают тлеющие деньги; из-под камня своей вины выбирается Раскольников.
Нетрудно заметить, что все камни, о которых шла речь, появлялись или как-то себя проявляли в финале романа.
Теперь, увязывая в одну цепочку символы
камня,
железа,
меди,
тела,
чистого белья,
крестов,
тлетворного духа,
можно попробовать восстановить тот гипотетический прообраз или смысл,
который за ними стоит…
Интерпретация символов
Герой Достоевского — это человек, готовящийся к самопожертвованию, захваченный в момент, когда он переступает порог духовного рождения или смерти. Он изменяется, выстраивает себя, прорывается к миру, зовущему и притягивающему его. Если перевести это состояние на язык возраста, видно, что речь идет о человеке-подростке, который мучительно переживает свое взросление и так и не может повзрослеть до конца. Естественное стремление юности вырасти, подняться над собой и мотив движения вверх. Это движение вверх окружено христианскими символами, что дает еще один важный смысл.
Пример:
Свидригайлову не пришлось подниматься на пожарную «колокольню»: настоящий колокол спустился, отлившись в медь шлема пожарника. Свидригайлову хватило намека на колокол.
Интерпретация символов
Человек Достоевского — это человек-звонарь. Здесь первый звонарь — Раскольников, неистово дергавший колокольчик у двери убитой им Алены Ивановны. Звонил и до убийства, и в день убийства, и когда после приходил.
Раскольников звонит в колокольчик так, будто пытается расколоть его.
Бить по колоколу — значит в определенном смысле раскалывать его (ряд устойчивых пословиц). «Битье»— единственный способ заставить колокол говорить, звучать, но тема страдания все равно никуда не исчезнет. Тут автор бессилен: он лишь проявляет или, наоборот, маскирует этот смысл.
Интерпретация символов
Колокол на высоте предполагает устремленность к этой высоте. Раскольников-убийца зачарован звоном колокольчика. Превращение в колокол притягательно, но и вместе с тем смертельно: это отливка в новую жизнь, ради которой нужно повиснуть на огромной высоте, ожидая всякий миг смертельного падения на землю.
Не случайно у Достоевского все самые главные вещи висят: чистое белье на веревках, нательные кресты на снурках, топор в петле. Угроза падения реальна и смертельна.
Смыслы высоты, света и рождения, угадывающиеся в колоколе, одолевают смыслы низа, тьмы и смерти.
«Заклад» Раскольникова
В «Преступлении и наказании» в число особых, онтологически отмеченных предметов (и одновременно веществ) входят: железный топор, медные и деревянные нательные кресты, медный колокольчик в квартире старухи, камень на Вознесенском проспекте, под которым Раскольников спрятал деньги и украшения, бумага (Евангелие и деньги) и «серебряный» заклад.
Заклад – самая странная из явленных в романе вещей и материй: бытие заклада подчеркнуто эфемерно, иллюзорно, условно. Он есть и вместе с тем его нет, ибо то, что именуется «серебряной папиросочницей», на самом деле собрано из деталей не серебряных, но собранных и скрепленных друг с другом таким образом, чтобы создать иллюзию серебряного предмета: лишь взятые вместе, включая сюда и бумажную обертку и тесемку, они создают эффект действительной серебряной папиросочницы. О том, как именно был устроен заклад Раскольникова и какой он нес в себе смысл, я скажу позже, а пока полезно было бы рассмотреть другие из уже называвшихся мною предметов, которые – в отличие от «серебряной папиросочницы» – вполне соответствуют своему наименованию. В них есть свои странности, но они относятся скорее не к устройству предмета, а к спрятанному внутри составляющей его материи смыслу.
Колокольчик в старухиной квартире был сделан из меди, однако из какой-то странной меди: не то чтобы медь была особенной, редко встречающейся, может быть, она была надтреснутой или что-нибудь в этом роде: главное в данном случае, это сам факт странности и необычности. Раскольников «уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил». О необычности колокольчика сообщалось и раньше:
«Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди». Наконец, уже после свершения убийства, когда Раскольников вновь приходит в квартиру старухи, Достоевский еще раз подтверждает факт странности этого звучания. «Вместо ответа Раскольников встал, вошел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук!» Колокольчик медный, а звук имеет жестяной: одно выдает себя за другое.
В топоре тоже было что-то необычное. Хотя подмены материала здесь нет (железо остается железом), тем не менее обнаруживается подмена смысловая. Дело в том, что Раскольников убил старуху и ее сестру совсем не тем топором, каким собирался сделать это первоначально. Эта деталь требует к себе особого внимания. На кухне Настасья стирала белье и развешивала его на веревках, и только по этой причине Раскольников был вынужден взять топор не на кухне, а в дворницкой. Сама по себе внешне незначительная, эта подробность становится важной, когда оказывается в окружении других, родственных ей подробностей. Новый топор Раскольникова – это уже не инструмент его воли, его идеи, а подарок, подлог случая-беса («Не рассудок, так бес! – подумал он, странно усмехаясь»). Не случайным выглядит и местоположение каморки, откуда был взят топор: это полуподземное помещение дворницкой. Топор, таким образом, был взят из-под земли, вернее, из-под огромного камня-дома; это своего рода «меч-кладенец», наделенный самостоятельной злой силой. Взяв его в руки, Раскольников минует семантическую «развилку», где развитие действия было еще не до конца определенным, многовозможным. Я говорю о возможностях предполагаемых, неявных, тихих. Их осуществление совсем необязательно, но они, тем не менее, оказывают влияние на главные события, придавая им объемность и многозначность. Примером может пойти эпизод приезда Чичикова к Коробочке, где отчетливо ощущается странный уголовный оттенок. Разумеется, Чичиков не причинил бы старушке вреда, однако, когда анализируешь эту ситуацию, особенно, когда вспоминаешь обо всех криминальных черточках Чичикова, явленных в поэме, а также о типологически близких ситуациях в «Пиковой даме» и «Преступлении и наказании», эпизод с Коробочкой приобретает некую дополнительную напряженность.
В «Преступлении и наказании» тоже есть след иной возможности, которой не суждено было сбыться, но которая придала всему случившемуся особую значимость. Сумел бы Раскольников осуществить свой замысел, если бы пошел на дело с кухонным топором, а не с топором из дворницкой? Вопрос, как кажется, не лишен смысла; настоящий, небесовской топор мог оказаться в самый решающий миг неподъемным для Раскольникова. Подставным же, подложным топором он действовал «почти без усилия, почти машинально». Затем эта особенность подчеркивается еще раз: «Силы его тут как бы не было». Сила шла от подложного топора, шла, возможно, уже с той минуты, когда Раскольников еще только-только взял его в каморке дворника, ободрившись при этом «чрезвычайно» (вспомним, наконец, о словах Раскольникова о том, что не он, а черт убил старушку, в которых, помимо мотива несамостоятельности, навязанности действия, можно расслышать и намек на неслучайность происшедшего: старуха-«ведьма» убита не простым, а особым, бесовским, топором).
Тело убийцы и его жертвы тоже оказываются в ряду веществ и предметов, имеющих в себе подвох или странность. Дважды в романе, причем в мгновения самые важные и напряженные (во время убийства реального и во время убийства, приснившегося Раскольникову), тело человека уподобляется дереву. Сначала «деревенеют» руки Раскольникова, нащупывающего спрятанный под пальто топор, а затем во сне Раскольникова «деревянным» оказывается тело старухи. «…Он постоял над ней: “боится!” – подумал он, тихонько высвободив из петли топор и ударив старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная». Плоть человека обнаруживает в себе смысл дерева. Кстати, первый намек на это дается Достоевским уже в тот миг, когда Раскольников только-только обретает свое орудие: «Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами». Мотив разрубания, колки дров, раскалывания дерева, таким образом, уже задан, подсказан.
Перечислим все вместе: подложный топор, деревянное тело, ложная серебряная папиросочница, медный колокольчик с жестяным звуком. Ряд уже достаточно очевиден, но еще не закрыт. В числе символически отмеченных предметов окажутся и нательные кресты. Здесь все как-будто соответствует своим наименованиям, однако ощущение путаницы, какой-то странной неточности все равно возникает; и даже само то, как подробно и настойчиво Достоевский занимается описанием крестиков, уже заставляет и нас присмотреться к ним с напряженным вниманием. Кресты были у Сони, а также у убиенных Алены Ивановны и Лизаветы. Отдельно сказано об образке, висевшем на снурке у старухи, и этот образок как раз и вносит в дело некоторый беспорядок. «На снурке (в момент смерти старухи. – Л. К.) были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок». На последних страницах романа эта финифть (эмаль) странным образом «превращается» в серебро. Когда Соня достает из ящика два креста – кипарисный и медный, и дает кипарисный Раскольникову, тот замечает:
«Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь». Помимо странного устройства фразы (к чему относится слово «серебряный»?), обращает на себя внимание само настойчивое упоминание именно о двух крестах: помимо того, что два креста несколько раз фигурируют при различных обстоятельствах, несколько раз о них говорит и Раскольников:
«…Я за твоими крестами, Соня» или «Ну, что же, где кресты?». Дело усложняется и произведенными обменами: Соня отдает Лизавете свой образок и берет ее медный крест. Свой же кипарисовый крест она отдает Раскольникову перед тем, как они отправляются для признания в контору. Путаница доходит до того, что возникает ощущение, будто не только Раскольников, но и Соня все время ходила без креста: ведь в последней решающей встрече Соня достает оба из имевшихся у нее крестиков из ящика; один надевает на себя, другой отдает Раскольникову. Меня в данном случае интересует не столько сам нонсенс, который, впрочем, можно объяснит «профессией» Сони, сколько подоплека всей этой путаницы. Похоже, Достоевский был настолько поглощен мыслью о крестах, что в какой-то момент просто потерял их из виду. И хотя очевидно, что на первом месте здесь была христианская тема Креста и угадывающийся за ней путь страдания, по которому должны были пойти Раскольников и Соня, вместе с этим в нательных крестиках героев романа присутствовала еще одна смысловая линия, уже не символическая, а «натуральная». Вещества меди и дерева, вещество тела пытались вступить в общий разговор, включиться в схему, элементами которой были все называвшиеся мною ранее предметы: топор, бумага, камень, колокольчик. Взятые же вкупе все перечисленные вещества и вещи образуют своего рода кольцо, в центре которого оказывается одна небольшая «серебряная» вещица – ложный заклад Раскольникова. В этом закладе скрыто если не объяснение, то, во всяком случае, намек, позволяющий хотя бы до некоторой степени приблизиться к пониманию произошедшего.
Заклад Раскольникова – свернутый сюжет убийства и его последствий. Заклад – иноформа еще не осуществившегося замысла, его предвосхищение в наиболее важных деталях. Поэтому важно обратить внимание на подробности его устройства. «Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка, величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту дощечку он случайно нашел, в одну из своих прогулок, на одном дворе, где, во флигеле, помещалась какая-то мастерская. Потом уже он прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, – вероятно, от чего-нибудь отломок, – которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест, ниткой; потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую бумагу и обвязал тоненькою тесемочкой, тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудренее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучить таким образом минуту. Железная же пластинка прибавлена была для весу, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что “вещь” деревянная».
Главные части «заклада» – это деревянная дощечка и железная полоска, причем железная часть была меньше деревянной. Среди «отмеченных» в романе веществ присутствуют дерево и железо. Взглянув на закрепленные за ними смыслы, нетрудно перенести их и на части раскольниковского заклада. Дерево представляет тело человека: непосредственно – в уподоблениях рук убийцы и тела его жертвы дереву, и опосредованно – в материи нательных кипарисовых крестов, где связь с телом идет через тему телесной муки Христа, а также через метонимическую близость, обнаруживающуюся уже в самом названии крестика – «нательный». Человек надевает крестик на себя, Христос же себя надевает на крест.
С железом – все проще и четче: железо фигурирует в качестве топора, которым были убиты старуха и ее сестра. Деревянная дощечка и железная «гладкая» полоска заклада, таким образом, представляют собой натуральное «изображение» тела жертвы и орудия убийства. Если бы не исключительная роль, которую раскольниковский заклад сыграл в дальнейшем развитии действия, об этих подробностях можно было бы и не говорить. Однако приуроченность заклада к конструктивной позиции начинающегося многовозможного смыслового движения, а также особое устройство заклада, столь тщательно описанное, позволяют увидеть в «серебряной папиросочнице» нечто большее, нежели обычную деталь. Заклад становится свернутым сюжетом, моделью, схемой убийства. Это находит поддержку и в психологии сочинительства, для которой опережающее переживание еще не наступивших, но напряженно ожидаемых событий, появление каких-то деталей, предвосхищающих детали будущие, дело вполне естественное. Держа в уме целое романа и, уж во всяком случае, зная о подробностях дела, которое должно будет произойти всего через несколько еще ненаписанных страниц, автор проговаривается о деталях этого дела, которое давит на него своей ужасающей реальностью и выразительностью. С описания ложного заклада Раскольникова, собственно говоря, и начинается вещественно представленная и документированная история преступления и наказания Раскольникова. Автор здесь как бы совпадает с героем, незаметно для себя проигрывая, переживая все то, что должно будет произойти впоследствии. Это своего рода мини-преступление, макет, проба, в чем-то родственная той, что сделал сам Раскольников, наведав старуху незадолго до убийства.
Находит свое место в этой «репетиции» и нитка с тесемкой, которыми был скреплен внутри и обвязан снаружи «заклад». Удачная выдумка Раскольникова – устроить петлю под мышкой, чтобы можно было незаметно нести топор под одеждой – была осуществлена с помощью тесьмы, которую он оторвал от своей старой рубашки. Следуя намеченной линии сопоставлений, мы получим примерно следующую картину: тесьма держит настоящий топор, спрятанный под пальто, и тесьма же держит, скрепляет топор символический, условный, спрятанный в раскольниковском закладе. Поскольку же тесьма была взята им от одежды и связана с одеждой (петля из тесьмы была пришита к пальто и та же самая тесьма обкручивала «одежду» заклада – бумагу), то выходит, что нитка, навернутая на сами спрятанные под бумагой-одеждой пластинки, оказывается своего рода «снурком», прилегающим к телу жертвы. На теле старухи был сну рок с висящими на нем крестами: тема крестов, таким образом, неожиданно через ходы метонимии просачивается в устройство раскольниковского заклада: деревянная дощечка, представляющая тело жертвы, и прижатая к ней металлическая полоска-топор были связаны друг с другом «крест-накрест ниткой», а бумага-одежда была замотана «тесемочкой, тоже накрест». Тема креста, крестного страдания, тема перекрестка, на который выйдет в конце концов Раскольников, чтобы объявить о своем преступлении миру, тема крестного пути убийцы и блудницы, наконец, тема двух нательных крестов объединяются в единое символическое целое и – тесьмой и ниткой ложатся крест-накрест на «плоть» и «одежду» раскольниковского заклада.
Насколько произвольно, необязательно все сказанное? Можно ли, к примеру, завязать пластинки заклада не крест-накрест, а по-другому? Наверное, можно, но не в этом дело. Более того, даже если бы их можно было связать только таким образом, все равно это не изменило бы главного: логика реальности совпала, наложилась на логику символическую. Достоевскому нужны были кресты, и они появились. Устройство заклада, полностью находившееся в его ведении, вышло таковым, что крестам из нитки и тесьмы была дана возможность быть. Точно так же, как дана была эта возможность деревянной дощечке и металлической полоске. Не имея в виду найти везде точные соответствия, стоит все же сказать кое-что и о бумаге, которой был обернут заклад. Если бы не начатый нами ряд сопоставлений, то «узнавание» в бумаге заклада бумаги Евангелия и бумаги денег, взятых Раскольниковым у старухи, наверное, не имело бы смысла. Однако если признать отмеченность всех названных предметов, то попробовать сопоставить их между собой все же можно. Достоевский сообщает, что лежавшие под камнем бумажные деньги «чрезвычайно попортились». Деньги, лежащие в земле, под камнем, сопоставимы с похороненным человеческим телом. Мотив порчи, тления телесной материи (деньги как эквивалент телесности) выводит нас к Евангельскому эпизоду с воскресшим Лазарем, где есть и камень и «порча» тела («уже смердит»).
В этом смысле Евангельский эпизод выступает как моделирующий по отношению к действиям Раскольникова после свершения им преступления, подобно тому, как в эмблеме «заклада» намечались контуры, детали самого преступления. Эпизод с Лазарем, и прежде всего, камень, отваленный от могилы, и смердящее тело, становятся «прообразом» камня на Вознесенском проспекте и лежащих под ним тлеющих, «смердящих» денег. Указав следователю на свой камень, т. е. фактически велев «отвалить» его от входа в «могилу», Раскольников оживляет, выводит на свет не лежавшие под камнем деньги, а самого себя, когда-то слившегося в своей идее-мечте с эфемерной материей денег.
Здесь мы уже вплотную подходим к вопросу об общих онтологических схемах, действующих у Достоевского, которые выходят далеко за пределы романа «Преступление и наказание». Однако до того следует более детально познакомиться с тем смыслом, которым у Достоевского обладают вещества железа и меди.
Еще раз о «тайне» заклада
Подобным образом, хотя, конечно, и не в такой степени, как во сне, телесное начало может влиять и на «дневное» творчество. Но здесь на первое место выходит не положение тела в момент написания текста и не частота сердечных сокращений или отсиженная нога, а факторы несоизмеримо большего масштаба. Например, речь может идти об индивидуальных телесно-психологических особенностях человека, которые в соединении с типом характера или темперамента образуют уникальную психо-соматическую конфигурацию, оказывающую влияние как на способ мировосприятия, так и на способ самовыражения – в данном случае, способ самовыражения в творчестве. Автор пишет роман, симфонию, рисует картину и передает им кое-что из своей личности, из личности «целокупной», то есть включающей в себя не только душевное, умственное, но и телесное. Таким образом, авторская персональная онтология становится эстетической реальностью, которую может разделить с автором читатель, зритель или слушатель. А может и не разделить, и возможно, в этом выборе сыграет свою роль персональная онтология читателя или зрителя, в основах которой, так же как и у автора, кроме начала умственного и душевного, лежит и начало телесное.
Горный склон с тысячами камней может оставаться в одинаковом виде неопределенно долгое время, однако достаточно резкого порыва ветра, который сдвинет со своего места какой-нибудь камень, и картина склона резко изменится: тысячи камней и обломков устремятся вниз. Подобным образом устроено и наше восприятие. Наше психическое состояние может резко изменить свою конфигурацию под воздействием какого-либо незначительного события или впечатления, которые потянут за собой другие, более сильные впечатления или мысли. В итоге уже через минуту человек может быть настроен совершенно по-другому, думать совсем о другом, не осознавая причины произошедшей с ним перемены.
В процессе чтения друг на друга накладываются два огромных и многомерных смысловых поля – авторского и читательского. Каждое слово, написанное автором, имеет, условно говоря, две стороны. Это общее, «словарное» значение слова и то значение, которое в него вкладывал, осознавая это или нет, сам автор. Например, написав слово «бусы» и не дав их описания, он все же (так или иначе) подразумевал под этим словом не что-то «вообще», а нечто конкретное, свое, и потому неизвестное читателю. Однако то же самое происходит и с читателем: прочитав слово «бусы», он незаметно для себя подкладывает под это слово какие-то знакомые ему бусы, тем самым делая картинку объемной, оживляя схему, которой так или иначе является любое слово. Текст, каждое его слово и словосочетание постоянно провоцирует читателя, формирует в нем смысловую конструкцию, которая им не вполне осознается, но – по мере чтения текста – становится все более определенной, прочной и действенной.
Иначе говоря, детали, сотни деталей, на которые мы как будто не обращаем особого внимания и движемся дальше, следя за сюжетом, на самом деле оказывают на нас немалое действие. Повторяясь, варьируясь, перекликаясь друг с другом, они создают так называемую «атмосферу» повествования, заставляют нас поверить в вымысел автора и вжиться в описываемые события. Каждая деталь, каждая подробность, которую автор дает осознанно или чаще всего неосознанно, откликается в уме читателя, создавая эффекты эстетического вчувствования и ожидания-предвосхищения будущих событий.
Если автор и знает о том, о чем напишет через десять или двадцать страниц, то знание это весьма условно и туманно. Возможно, он держит в уме какой-то важный эпизод, какие-то сильные эффекты, однако как именно будут оформлены будущие события, он точно не знает. Текст, самый процесс письма подводит его к тому, что будет написано позже, в тех подробностях, которые во многом будут определяться тем, что было написано ранее.
Но если в тексте с самого начала или по мере движения сюжета уже имеются указания на то, какими будут последующие события, следовательно, эти знаки может увидеть и читатель. Другое дело, что он (как, впрочем, нередко и сам автор) не знает, что это особые знаки, а не просто обычные слова, которых в тексте десятки и сотни тысяч. Однако отсутствие видимого, осознаваемого воздействия не отменяет самого факта воздействия. Если автор – желая того или нет – расставил знаки, которые сами собой, уже без авторского участия, складываются в некий собственный сюжет, значит и читатель, улавливая эти знаки, также оказывается причастным к становлению, развитию этого сюжета. Не зная точно, что будет дальше, он предчувствует будущие события, и происходит это благодаря той тотальной отзывчивости нашего восприятия, о которой говорилось ранее. Двигаясь по тексту, мы вовсе не забываем полностью деталей прочитанного. Они остаются, исподволь закрепляются в памяти, плавают в ней, подобно маячкам, и как только в тексте появляется что-то им созвучное или как-то с ними связанное, мы мгновенно устанавливаем связь между тем, что читаем в данный момент и тем, что было прочитано час или день назад. Так создается особое впечатление от описания, читаемого нами в данный момент, впечатление, которое было бы не столь сильным, если бы не предварительная работа, проделанная нами ранее.
Например, в романе «Преступление и наказание» сцена убийства старухи-процентщицы (и сама по себе сильная) оказывает особое впечатление еще и потому, что она исподволь, незаметно подготовлена важными деталями, с которыми читатель познакомился из предыдущего изложения событий. Например, из описания того, как Раскольников изготавливал «заклад», который он собирался отнести к старухе.
«Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а деревянная, гладко обструганная дощечка, величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту дощечку он случайно нашел, в одну из своих прогулок, на своем дворе, где, во флигеле, помещалась какая-то мастерская. Потом он уже прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, – вероятно, от чего-нибудь отломок, – которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив две дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест, ниткой; потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу и обвязал тоненькою тесемочкой, тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудренее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучить таким образом минуту. Железная же пластинка была прибавлена для весу, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что “вещь” деревянная».
Если вспомнить о том, что орудием убийства стал топор, то между двумя частями (и веществами) «заклада» и двумя частями (и веществами) топора устанавливается прочное соответствие. Дощечка деревянная плюс железная пластинка – это хотя и не сам топор, но нечто ему близкое. Топор так же, как и «заклад», собран из двух частей – деревянной и железной. О реальных совпадениях в размерах и пропорциях здесь говорить не приходится, однако указание Достоевского на то, что железная часть была меньше деревянной, представляется не случайным: так оно и есть в настоящем топоре. Помимо сказанного, деревянная часть заклада может обозначать и человеческую плоть, на которую будет нацелен топор; во всяком случае, в сюжете убийства «дерево» в названном смысле упоминается дважды: «деревенели» руки убийцы, и старуха во сне Раскольникова была «точно деревянная».
Железо у Достоевского – металл нехороший, инфернальный, убийственный, поэтому указание на то, что медный дверной колокольчик у двери старухи звучал, как жестяной (то есть как железный), можно понять как намек на его ложную природу. Раскольников перед «делом» звонил не в в обычный колокольчик, а в бесовской. Подобным образом дело обстояло и с топором: Раскольников собирался взять топор с кухни, но не смог, так как там оказалась хозяйкина прислуга. Что же касается топора, который оказался в его руках, то он попал к нему случайно. Раскольников увидел его в каморке дворника, в темноте под домом. Вот этот-то топор – подложный, бесовской и оказался орудием, которым можно было свершить убийство. Как пишет Достоевский, топором Раскольников действовал «почти без усилия, почти машинально». И затем говорится еще раз: «Силы его тут как бы не было».
Вернемся к «закладу» – вещи, в названии которой, помимо обычного, присутствует и некий дополнительный смысл: Раскольников, задумав убить старуху, закладывает не столько ложное серебро, сколько свою душу, имея в «помощниках» два бесовских предмета – топор и колокольчик. Обо всех этих подробностях, возможно, не стоило бы и говорить, если бы не та исключительная роль, которую раскольниковский заклад сыграл в дальнейшем развитии действия, в его конкретных обстоятельствах. Приуроченность заклада к началу действия, а также та тщательность, с которой Достоевский описывает этот предмет, указывают на то, что перед нами не просто деталь, ни к чему не обязывающая подробность, а нечто гораздо более важное и значительное. Заклад с его набором символически значимых веществ, или «материй», оказывается своего рода свернутым сюжетом, моделью, схемой надвигающегося ужасного события и его последствий. Причиной тому – психология сочинительства, то есть авторское опережающее переживание еще не наступивших, но напряженно ожидаемых событий: так появляются детали, ситуации, которые предвосхищают то, что еще не произошло.
Дважды крест-накрест перевязанный «заклад» и – два креста, сброшенные на грудь убитой Алены Ивановны. И здесь же – тема крови и страдания, соотнесенная с темой Христова креста и будущего крестного, очистительного страдания Раскольникова. Пряча топор под одежду, Раскольников засунул его в петлю, специально для этого сделанную: петля была из тесьмы, и тесьма же крестом лежала на ложном закладе. Можно сказать, что «заклад» – это своего рода мини-преступление, его макет или проект: Раскольников думал о топоре, и эта мысль сказалась в устройстве заклада, в его форме. И здесь же дает себя знать тема креста, крестного страдания, тема перекрестка, куда в конце концов выйдет Раскольников, чтобы объявить о своем преступлении. Все это сходится вместе, объединяется в единое символическое целое и – тесьмой и ниткой – завязывается крест-накрест на «заклад-топор» Раскольникова, фамилия которого (помимо всех других возможных смыслов) указывает на то страшное дело, которое он совершил, расколов топором головы своих жертв.
Деревянная дощечка с металлической полоской достоевский
Главные части «заклада» — это деревянная дощечка и железная полоска, причем железная часть была меньше деревянной. Среди «отмеченных» в романе веществ присутствуют дерево и железо. Взглянув на закрепленные за ними смыслы, нетрудно перенести их и на части раскольниковского заклада. Дерево представляет тело человека: непосредственно — в уподоблениях рук убийцы и тела его жертвы дереву, и опосредованно — в материи нательных кипарисовых крестов, где связь с телом идет через тему телесной муки Христа, а также через метонимическую близость, обнаруживающуюся уже в самом названии крестика — «нательный» 9.
С железом — все проще и четче: железо фигурирует в качестве топора, которым были убиты старуха и ее сестра. Деревянная дощечка и железная «гладкая» полоска заклада, таким образом, представляют собой натуральное «изображение» тела жертвы и орудия убийства. Если бы не исключительная роль, которую раскольниковский заклад сыграл в дальнейшем развитии действия, об этих подробностях можно было бы и не говорить. Однако приуроченность заклада к конструктивной позиции начинающегося многовозможного смыслового движения, а также особое устройство заклада, столь тщательно описанное, позволяют увидеть в «серебряной папиросочнице» нечто большее, нежели обычную деталь. Заклад становится свернутым сюжетом, моделью, схемой убийства. Это находит поддержку и в психологии сочинительства, для которой опережающее переживание еще не наступивших, но напряженно ожидаемых событий, появление каких-то деталей, предвосхищающих детали будущие, дело вполне естественное. Держа в уме целое романа, и уж во всяком случае, зная о подробностях дела, которое должно будет произойти всего через несколько еще ненаписанных страниц, автор проговаривается о деталях этого дела, которое давит на него своей ужасающей реальностью и выразительностью. С описания ложного заклада Раскольникова, собственно говоря, и начинается вещественно представленная и документированная история преступления и наказания Раскольникова. Автор здесь как бы совпадает с героем, незаметно для себя проигрывая, переживая все то, что должно будет произойти впоследствии. Это своего рода мини-преступление, макет,. проба, в чем-то родственная той, что сделал сам Раскольников, наведав старуху незадолго до убийства.
Находит свое место в этой «репетиции» и нитка с тесемкой, которыми был скреплен внутри и обвязан снаружи «заклад». Удачная выдумка Раскольникова — устроить петлю под мышкой, чтобы можно было незаметно нести топор под одеждой ю — была осуществлена с помощью тесьмы, которую он оторвал от своей старой рубашки. Следуя намеченной линии сопоставлений, мы получим примерно следующую картину: тесьма держит настоящий топор, спрятанный под пальто, и тесьма же держит, скрепляет топор символический, условный, спрятанный в раскольниковском закладе. Поскольку же тесьма была взята им от одежды и связана с одеждой (петля из тесьмы была пришита к пальто и та же самая тесьма обкручивала «одежду» заклада — бумагу), то выходит, что нитка, навернутая на сами, спрятанные под бумагой-одеждой пластинки, оказывается своего рода «снурком», прилегающим к телу жертвы. На теле старухи был снурок с висящими на нем крестами: тема крестов, таким образом, неожиданно через ходы метонимии, просачивается в устройство раскольниковского заклада: деревянная дощечка, представляющая тело жертвы, и прижатая к ней металлическая полоска-топор были связаны друг с другом «крест-накрест ниткой», а бумага-одежда была замотана «тесемочкой, тоже накрест». Тема креста, крестного страдания, тема пере-крестка, на который выйдет в конце концов Раскольников, чтобы объявить о своем преступлении миру, тема крестного пути убийцы и блудницы, наконец, тема двух нательных крестов объединяются в единое символическое целое « и — тесьмой и ниткой ложатся крест-накрест на «плоть» и «одежду» раскольниковского заклада.
Насколько произвольно, необязательно все сказанное? Можно ли, к примеру, завязать пластинки заклада не крест-накрест, а по-другому? Наверное, можно, но не в этом дело. Более того, даже если бы их можно было связать только таким образом, все равно это не изменило бы главного: логика реальности совпала, наложилась на логику символическую. Достоевскому нужны были кресты, и они появились. Устройство заклада, полностью находившееся в его ведении, вышло таковым, что крестам из нитки и тесьмы была дана возможность быть. Точно так же как дана была эта возможность деревянной дощечке и металлической полоске. Не имея в виду найти везде точные соответствия, стоит все же сказать кое-что и о бумаге, которой был обернут заклад. Если бы не начатый нами ряд сопоставлений, то «узнавание» в бумаге заклада бумаги Евангелия и бумаги денег, взятых Раскольниковым у старухи, наверное, не имело бы смысла. Однако если признать отмеченность всех названных предметов, то попробовать сопоставить их между собой все же можно. Достоевский сообщает, что лежавшие под камнем бумажные деньги «чрезвычайно попортились». Деньги, лежащие в земле, под камнем, сопоставимы с похороненным человеческим телом. Мотив порчи, тления телесной материи (деньги как эквивалент телесности) выводят нас к Евангельскому эпизоду с воскресшим Лазарем, где есть и камень и «порча» тела («уже смердит»). В этом смысле Евангельский эпизод выступает как моделирующий по отношению к действиям Раскольникова после свершения им преступления, подобно тому, как в эмблеме «заклада» намечались контуры, детали самого преступления. Эпизод с Лазарем, и прежде всего, камень, отваленный от могилы, и смердящее тело, становятся «прообразом» камня на Вознесенском проспекте и лежащих под ним тлеющих, «смердящих» денег. Указав следователю на свой камень, т. е. фактически велев «отвалить» его от входа в «могилу». Раскольников оживляет, выводит на свет не лежавшие под камнем деньги, а самого себя, когда-то слившегося в своей идее-мечте с эфемерной материей денег.
Здесь мы уже вплотную подходим к вопросу об общих онтологических схемах, действующих у Достоевского, которые выходят далеко за пределы романа «Преступление и наказание». Однако до того следует более детально познакомиться с тем смыслом, которым у Достоевского обладают вещества железа и меди.
Общие символические схемы могут быть названы «общими» лишь условно, так как речь идет лишь об определенном смысловом слое или уровне, обнаруживающемся в романах Достоевского: люди и предметы здесь как бы уравниваются в своих правах, реально влияют друг на друга, разговаривают на внятном им языке вещества, телесности или запаха. И хотя человек больше вещи, он все же может попасть под ее власть, так как сам состоит не только из ума и воли, но из вещественного тела, быстро находящего общий язык с другими телами и веществами.
Когда человек Достоевского подходит к своей пороговой минуте, где-то рядом с ним появляются вещи или вещества, тесным образом связанные с загадкой человеческой телесности. Появление таких предметов укоренено в текстах и логически и символически. Подобно тому, как «кресты» на закладе Раскольникова были одновременно и символом будущего крестного страдания и естественным способом связать между собой две пластинки, так же и большинство из «отмеченных» предметов у Достоевского объединяют в, себе оба названных свойства. Железо, бумага, медь, веревка (снурок), тело (тлетворный дух или нетронутая мясная пища), серебро, чистое белье под тем или иным предлогом проникают в комнату, где вот-вот должно произойти что-то очень важное. Чудом спасшийся от топора Раскольникова немец Кох, во время убийства старухи и Лизаветы, сидел внизу дома у «серебряника», а, скажем, тема стиранного белья в случае с подозреваемым в убийстве Митей Карамазовым проявляется лишь на следствии, когда Митя рассказывает, что его ладанка — это тряпка «тысячу раз мытая», украдена им у хозяйки, причем украдена, скорее всего, с кухни (вспомним о роли прачки и сушившегося на кухне белья в судьбе Раскольникова и Ивана Карамазова). Такого рода примеров у Достоевского немало, но пока рассмотрим более тщательно вещество железа.
Железо. Смертоносность железа не вызывает у Достоевского никаких сомнений. Она столь же определенна, как губительность железного пальца Вия.. Медь тоже присутствует при сценах убийства, однако се роль здесь совсем другая. Медь знает о готовящемся или уже свершившемся убийстве, она свидетель трагедии. Убивает же железо, независимо от того, в какую форму оно отлито — топора, револьвера или чугунного пресс-папье. И хотя не все в романах Достоевского погибают от железа, например, Смердяков или Ставрогин кончают жизнь в петле, все же тенденция очевидна, тем более, что даже в случае со Ставрогиным следы железа усмотреть можно: самоубийство Ставрогина имеет некий металлический привкус, причиной которому — описанный Достоевским большой железный гвоздь и молоток, специально принесенные наверх, под крышу дома.
Преступление и наказание (15 стр.)
Покончив с этим, он просунул пальцы в маленькую щель, между его «турецким» диваном и полом, пошарил около левого угла и вытащил давно уже приготовленный и спрятанный там заклад. Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка, величиной и толщиной не более, как могла бы быть серебряная папиросочница. Эту дощечку он случайно нашел, в одну из своих прогулок, на одном дворе, где во флигеле помещалась какая-то мастерская. Потом уже он прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску, — вероятно, от чего-нибудь отломок, — которую тоже нашел на улице тогда же. Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест, ниткой; потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую белую бумагу и обвязал тоненькою тесемочкой, тоже накрест, а узелок приладил так, чтобы помудренее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучить таким образом минуту.
Железная же пластинка прибавлена была для весу, чтобы старуха хоть в первую минуту не догадалась, что «вещь» деревянная. Все это хранилось у него до времени под диваном. Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик:
— Семой час давно!
Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней, осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело — украсть из кухни топор. О том, что дело надо сделать топором, решено им было уже давно. У него был еще складной садовый ножик; но на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно. Заметим кстати одну особенность по поводу всех окончательных решений, уже принятых им в этом деле. Они имели одно странное свойство: чем окончательнее они становились, тем безобразнее, нелепее, тотчас же становились и в его глазах. Несмотря на всю мучительную внутреннюю борьбу свою, он никогда, ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих замыслов во все это время.
И если бы даже случилось когда-нибудь так, что уже все до последней точки было бы им разобрано и решено окончательно и сомнений не оставалось бы уже более никаких, — то тут-то бы, кажется, он и отказался от всего, как от нелепости, чудовищности и невозможности. Но неразрешенных пунктов и сомнений оставалась еще целая бездна. Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила, потому что не было ничего легче. Дело в том, что Настасьи, и особенно по вечерам, поминутно не бывало дома: или убежит к соседям, или в лавочку, а дверь всегда оставляет настежь. Хозяйка только из-за этого с ней и ссорилась. Итак, стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, чрез час (когда все уже кончится), войти и положить обратно. Но представлялись и сомнения: он, положим, придет через час, чтобы положить обратно, а Настасья
тут как тут, воротилась. Конечно, надо пройти мимо и выждать, пока она опять выйдет. А ну как тем временем хватится топора, искать начнет, раскричится, — вот и подозрение или, по крайней мере, случай к подозрению.
Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал, да и некогда было. Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, когда сам во всем убедится. Но последнее казалось решительно неосуществимым. Так, по крайней мере, казалось ему самому. Никак он не мог, например, вообразить себе, что когда-нибудь он кончит думать, встанет и — просто пойдет туда… Даже недавнюю пробу свою (то есть визит с намерением окончательно осмотреть место) он только пробовал было сделать, но далеко не взаправду, а так: «дай-ка, дескать, пойду и опробую, что мечтать-то!» — и тотчас не выдержал, плюнул и убежал, в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски, искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать.
Сначала, — впрочем, давно уже прежде — его занимал один вопрос: почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике; сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его, выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления; продолжаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму; затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? — он еще не чувствовал себя в силах разрешить.
Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им — «не преступление»… Опускаем весь тот процесс, посредством которого он дошел до последнего решения; мы и без того слишком забежали вперед… Прибавим только, что фактические, чисто материальные затруднения дела вообще играли в уме его самую второстепенную роль. «Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они, в свое время, все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела…» Но дело не начиналось.
Окончательным своим решениям он продолжал всего менее верить, и когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно.
Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, еще прежде чем он сошел с лестницы. Поровнявшись с хозяйкиною кухней, как и всегда отворенною настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтоб оглядеть предварительно: нет ли там, в отсутствие Настасьи, самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтоб она тоже как-нибудь оттуда не выглянула когда он за топором войдет? Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома, у себя в кухне, но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках! Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено: нет топора! Он был поражен ужасно.
«И с чего взял я, — думал он, сходя под ворота, — с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему, почему, почему я так наверно это решил?» Он был раздавлен, даже как-то унижен. Ему хотелось смеяться над собою со злости… Тупая, зверская злоба закипела в нем.
Он остановился в раздумье под воротами. Идти на улицу, так, для виду, гулять, ему было противно; воротиться домой — еще противнее. «И какой случай навсегда потерял!» — пробормотал он, бесцельно стоя под воротами, прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул.
Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза… Он осмотрелся кругом — никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. «Так и есть, нет дома! Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь». Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил! «Не рассудок, так бес!» — подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно.
Читайте также: