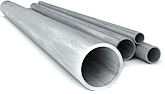Стальные рыцари угрюмые султаны
Обновлено: 06.05.2024
См. также одноимённые страницы.
| См. Стихотворения 1833 . Дата создания: 1833 [1] , опубл.: 1841 [2] . Источник: Собрание сочинений А. С. Пушкина в 10 томах (1959–1962) [3] |
Осень
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча ещё бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю её снега; в присутствии луны
Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмёт, пылая и дрожа!
Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги.
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стёклами двойными.
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив её блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечёт. Сказать вам откровенно,
Из годовых времён я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной.
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице ещё багровый цвет.
Она жива ещё сегодня, завтра нет.
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несёт,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промёрзлый дол и трескается лёд.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиёт,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывёт. Куда ж нам плыть? .
.
.
Другие редакции и варианты
Автограф
Между строфами X и XI:
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с чётками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные и злые великаны.
И вы, любимицы златой моей зари, —
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.
Строфа XII:
Ура. куда же плыть. какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный,
Иль опалённые Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный?
Примечания
Если произведение является переводом, или иным производным произведением, или создано в соавторстве, то срок действия исключительного авторского права истёк для всех авторов оригинала и перевода.
Стальные рыцари угрюмые султаны
ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ
Окончание стихотворения в рукописи:
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу моему наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые,— два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут. и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.
НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА, ПРИ МНЕ
В первоначальной рукописи отсутствовала третья строфа, но после первой следовала затем отброшенная строфа:
Напоминают мне оне
Кавказа гордые вершины,
418
Лихих чеченцев на коне
И закубанские равнины.
В черновой рукописи две первые строки четвертой строфы читаются:
Кругом нет жизни, все молчит,
Недвижно все, лишь вихорь черный
В другой рукописи после пятой строфы зачеркнута следующая:
И тигр, в пустыню забежав,
В мученьях быстрых издыхает,
Паря над ней, орел стремглав,
Кружась, безжизненный, спадает.
Первоначально Пушкин начал стихотворение следующими стихами:
Толпа холодная поэта окружала
И равнодушные хвалы ему жужжала.
Но равнодушно ей, задумчив, он внимал
И звучной лирою рассеянно бряцал.
В рукописи в заключительном обращении поэта к толпе вместо стиха «Довольно с вас, рабов безумных!»:
Довольно с вас. Поэт ли будет
Возиться с вами сгоряча
И лиру гордую забудет
Для гнусной розги палача!
Певцу ль казнить, клеймить безумных?
(Вы избалованы природой)
Вы избалованы природой,
Она пристрастна к вам была,
419
И наша страстная хвала
Вам кажется докучной модой.
Вы сами знаете давно,
Что вас хвалить немудрено,
Что ваши взоры — сердцу жалы,
Что ваши ножки очень малы,
Что вы чувствительны, остры,
Что вы умны, что вы добры,
Что можно вас любить сердечно,
Но вы не знаете, конечно,
Что и болтливая молва
Порою правды не умалит,
Что иногда и сердце хвалит,
Хоть и кружится голова.
Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.
Мне грустно и легко — печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою —
Тобой, одной тобой — унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
Первая редакция, предназначавшаяся к печати:
Был на свете рыцарь бедный,
Молчаливый как святой,
420
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и простой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
Путешествуя в Женеву,
Он увидел у креста
На пути Марию-деву,
Матерь господа Христа.
С той поры, заснув душою,
Он на женщин не смотрел
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Никогда стальной решетки
Он с лица не подымал,
А на грудь святые четки
Вместо шарфа навязал.
Тлея девственной любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, sancta virgo, кровью
Написал он на щите.
Петь псалом отцу и сыну
И святому духу век
Не случалось паладину —
Был он странный человек.
Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней страстны очи,
Тихо слезы лья рекой.
Между тем как паладины
Мчались грозно ко врагам
По равнинам Палестины,
Именуя нежных дам,
Lumen coeli, sancta rosa!—
Восклицал всех громче он,
421
И гнала его угроза
Мусульман со всех сторон.
Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он будто заключен,
И влюбленный и печальный,
Без причастья умер он.
Как с кончиной он сражался,
Бес лукавый подоспел.
Душу рыцаря сбирался
Утащить он в свой предел.
Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Целый век-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.
Пятый стих первоначально читался:
Не в Москве, не в Таганроге
После стиха «Где-нибудь в карантине» намечена была строфа:
Или ночью в грязной луже,
Иль на станции пустой,
Что еще гораздо хуже —
У смотрителя, больной.
Первые из этих стихов сперва были:
Иль как Анреп в вешней луже
Захлебнуся я в грязи.
После стиха «На досуге помышлять» недоработанная строфа:
Долго ль мне роптать на время,
На прижимки кузнецов,
422
На подтянутое стремя,
На . ямщиков.
БРОЖУ ЛИ Я ВДОЛЬ УЛИЦ ШУМНЫХ
В рукописи первоначально вместо первых двух строф была одна:
Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.
После стиха «Мой примет охладелый прах?» следовала еще одна строфа:
Вотще! Судьбы не переломит
Воображенья суета,
Но не вотще меня знакомит
С могилой ясная мечта.
В не дошедшей до нас черновой рукописи было необработанное продолжение:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.
В черновой рукописи третья строфа читалась:
Ты, казак, за делибашем
Не гонися, погоди,
Вмиг мы саблями замашем,
Будешь, будешь впереди.
423
Вдоль замерзлого потока,
По забору меж ветвей
Скачет пестрая сорока
И пророчит мне гостей.
Ночка, ночка, стань темнее,
Вьюга, вьюга, вой сильнее,
Ветер, ветер, громче вой,
Разгони людей жестоких,
У ворот, ворот широких
Жду девицы дорогой.
В черновой рукописи вместо четырех стихов, начиная с «Бесконечны, безобразны», первоначально было:
Что за звуки. аль бесенок
В люльке охает, больной;
Или плачется козленок
У котлов перед сестрой.
ПАЖ, или ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД
В рукописи после стиха «Попробуй кто меня толкнуть» зачеркнуто:
Читал я Федру и Заиру,
Как злой гусар сижу верхом,
И показать могу я миру,
Что мастерски держу рапиру
И ею правлю как мячом.
После стиха «Вот какова ее любовь!» (первоначально после «И мне доступна одному») зачеркнуто:
Давно я только сплю и вижу,
Чтоб за нее подраться мне,
Вели она — весь мир обижу,
424
Пройду от Стрельни до Парижу,
Рубясь пешком иль на коне.
СТАМБУЛ ГЯУРЫ НЫНЧЕ СЛАВЯТ
В рукописи после стиха «Непроницаемы стоят» зачеркнуто:
В нас ум владеет плотью дикой,
И покорен Корану ум,
И потому пророк великой
Хранит как око свой Арзрум.
Кроме того, в черновике имеются зачеркнутые стихи:
Меж нами скрылся янычар,
Как между братиев любимых,
Что рек Алла: спасай гонимых,
Приход их — дому божий дар.
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ШКОЛУ ПОМНЮ Я
Первоначально стихотворение было задумано не в терцинах, а в октавах. Сохранилась первая необработанная октава:
Тенистый сад и школу помню я,
Где маленьких детей нас было много,
Как на гряде одной цветов семья,
Росли неровно — и за нами строго
Жена смотрела. Память уж моя
Истерлась, обветшав . убого,
Но лик и взоры дивной той жены
В душе глубоко напечатлены.
Пушкин обработал последние стихи октавы, но не согласовал их с остальными:
Уж плохо служит память мне моя —
Ткань ветхая, истершаясь убого.
Но живо, ясно взоры той жены
Во мне глубоко напечатлены.
425
К этому же замыслу относится набросок:
Я помню деву юности прелестной,
Еще не наступала ей пора,
Она была младенцем —
ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ
Второе четверостишие первоначально читалось:
На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
В рукописи зачеркнута вторая строфа:
Давно ль, друзья. но двадцать лет
Тому прошло; и что же вижу?
Того царя в живых уж нет;
Мы жгли Москву; был плен Парижу;
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава;
С престола пал другой Бурбон;
Отбунтовала вновь Варшава.
В рукописи зачеркнута строфа после десятой:
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные и злые великаны,
И вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.
426
В черновом автографе последняя строфа доведена до шестого стиха:
Ура. куда же плыть. какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный,
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный.
В рукописи имеются строфы, исключенные из последней редакции. После стиха «Над могилою его» в беловой рукописи зачеркнуто:
В сокрушении глубоком
Беспрестанно слезы льет,
День и ночь у бога молит
Отпущение грехов.
После стиха «Краткий сон его мутить» в черновой рукописи еще две строфы:
Лишь уснет, ему приснятся
Графской дочери черты,
Перед ним мелькает Кава,
Каву снова видит он,
Очи полны думы гордой,
Благородное чело,
И младенчески открыто
Выраженье детских уст.
Вместо одной строфы «В сновиденье благодатном. » было две:
Раз несчастный утомленный
На рассвете задремал,
И господь ему виденье
Благодатное послал.
Видит он: святой угодник
Приближается к нему,
Ризой светлою одеян
И сияньем окружен.
Черновой отрывок, не вошедший в беловую редакцию:
Чудный сон мне бог послал: :
С длинной белой бородою,
427
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Путник, ляжешь на ночлеге,
В пристань, плаватель, войдешь,
Бедный пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде.
Ныне грешник тот великий,
О котором предвещанье
Слышал ты давно — .
. Грешник долгожданный
Наконец к тебе придет
Исповедовать себя
И получит разрешенье,
И заснешь ты вечным сном».
Сон отрадный, благовещий —
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, творец.
Но твоя да будет воля,
Не моя.— Кто там идет.
ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ
Отрывки из черновой редакции
После стиха «Ни кропотливого ее дозора»:
И вечером при завыванье бури
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет — но всё приятных сердцу,
Как шум привычный и однообразный
428
Любимого ручья. Вот уголок,
Где для меня безмолвно протекали
Часы печальных дум иль снов отрадных,
Часы трудов, свободно-вдохновенных.
Здесь, погруженный в . .
Я размышлял о грустных заблужденьях,
Об испытаньях юности моей,
О строгом заслуженном осужденье,
О мнимой дружбе, сердце уязвившей
Мне горькою и ветреной обидой.
Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затверженным
С издетства мной — но всё приятным сердцу,
Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коих знаем,
Какое слово где стоит.
Бывало,
Ее простые речи и советы
И полные любови укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой.
После стиха «Оно синея стелется широко»:
Ни тяжкие суда торговли алчной,
Ни корабли, носители громов,
Ему кормой не рассекают вод;
У берегов его не видит путник
Ни гавани кипящей, ни скалы,
Венчанной башнями; оно синеет
В своих брегах пустынных и смиренных.
В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я, когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был —
Веселым юношей, беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни; — годы
Промчалися, и вы во мне прияли
429
Усталого пришельца; я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
Я зрел врага в бесстрастном судии,
Изменника — в товарище, пожавшем
Мне руку на пиру,— всяк предо мной
Казался мне изменник или враг.
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость,
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грезы мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.
Я ДУМАЛ, СЕРДЦЕ ПОЗАБЫЛО
В черновике первым стихам предшествовало неотделанное четверостишие:
Тогда ли, милая, тогда ли
Была явиться мне должна.
Когда .
. решена.
Кроме того, Пушкин начал писать продолжение:
Гляжу, предаться не дерзая
Влеченью томному души,
. прелесть молодая,
Полурасцветшая в тиши.
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЛУКУЛЛА
В черновой рукописи вместо четвертой строфы было две. Первая из них кончалась стихами, оканчивающими третью строфу беловой редакции, а начиналась недоработанным четверостишием.
Уж он в мечтах располагал
Твоей казною родовою,
430
На откуп реки отдавал,
Рубил наследственные рощи.
Вторая начиналась начальными стихами третьей строфы беловой редакции и кончалась:
Но что? еще не умер он?
Постой, зажми пустую лапу!
Зачем же медлить Эскулапу!
Забудь соблазна сон.
В МОИ ОСЕННИЕ ДОСУГИ
Предварительные черновые наброски:
Ты хочешь, мой наперсник строгой,
Боев парнасских судия,
Чтоб . тревогой
.
На прежний лад . настроя,
Давно забытого героя,
Когда-то бывшего в чести,
Опять на сцену привести.
Ты говоришь: .
Онегин жив, и будет он
Еще нескоро схоронен.
О нем вестей ты много знаешь,
И с Петербурга и Москвы
Возьмут оброк его главы.
Ты не советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман наш продолжать
И строгий век, расчета век железный,
Рассказами пустыми угощать.
Ты думаешь, что с целию полезной
Тревогу славы можно сочетать,
И что . нашему собрату
Брать с публики умеренную плату.
431
Ты говоришь: пока Онегин жив,
Дотоль роман не кончен — нет причины
Его прервать. к тому же план счастлив —
. кончины
.
3. Александрийским стихом:
Вы за «Онегина» советуете, други,
Опять приняться мне в осенние досуги.
Вы говорите мне: он жив и не женат.
Итак, еще роман не кончен — это клад:
Вставляй в просторную, вместительную раму
Картины новые — открой нам диораму:
Привалит публика, платя тебе за вход —
(Что даст еще тебе и славу и доход).
Пожалуй — я бы рад —
Так некогда поэт
.
КОГДА ВЛАДЫКА АССИРИЙСКИЙ
В рукописи имеются отброшенные стихи.
После «Израил выи не склонил»:
Ему во сретенье народы
Объяты ужасом текли
И, отрекаясь от свободы,
Позорну дань ему несли.
После «Препояса́лась высота»:
Поля преградами изрыты,
Раскаты, башни и зубцы
Как лесом копьями покрыты,
И боя молча ждут бойцы.
432
Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ
НЕРУКОТВОРНЫЙ
Четвертая строфа первоначально читалась:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.
АЛЬФОНС САДИТСЯ НА КОНЯ
После стиха «Лишь только к ним подъехал он» первоначально следовало:
И при луне, сквозь сумрак ночи
Еще страшней их страшный вид:
Язык наруже, лезут очи
Вон изо лба. Храпит, дрожит
Альфонсов конь и, пятясь, боком
Проехал мимо, и потом
Понесся в горы резвым скоком
С своим отважным седоком.
Осень

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча ещё бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю её снега; в присутствии луны
Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмёт, пылая и дрожа!
Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги.
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стёклами двойными.
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив её блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечёт. Сказать вам откровенно,
Из годовых времён я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной.
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице ещё багровый цвет.
Она жива ещё сегодня, завтра нет.
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несёт,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промёрзлый дол и трескается лёд.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиёт,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Осень. Пушкин, 1833
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные и злые великаны.
И вы, любимицы златой моей зари, —
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.
Ура. куда же плыть. какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный,
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный?
Русский клуб в Шанхае

Сколько их было, заветных пушкинских мечтаний? Одним суждено было воплотиться в поэтические строки и в реальные земные события, другим — так и остаться потаенными желаниями, надеждами и видениями. Самая заветная, самая любимая, самая страстная, но так и несбывшаяся мечта — увидеть иные края, побывать в других странах. Ну хоть единожды пересечь границы огромнейшей Российской империи, посмотреть другой, почти нереальный для Пушкина мир, живущий лишь в его воображении, почувствовать вкус и запахи, неведомые прежде, увидеть краски дальних стран, испытать невероятные ощущения от встречи с иными мирами и цивилизациями. Это сладостное предчувствие свободы…
Странно. Будто некий рок тяготел над Пушкиным: словно золотой цепью приковали его к мифическому русскому дубу в родном Лукоморье. И как бы ни старался он преодолеть наложенное свыше «табу», тайком уехать в чужие края — все было тщетно: незримые пограничные шлагбаумы враз опускались перед дорожной кибиткой поэта.
«Долго потом вел я жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России». Десятки, сотни мелких, незначительных причин выстраивались вдруг в непреодолимые препятствия, и российская граница для Пушкина обретала контуры Великой Китайской стены…
Но как хотелось Александру Пушкину увидеть это настоящее чудо света, величественную крепость-твердыню, и он уже представлял себя в своих поэтических грезах там, у ее подножия, у «стен недвижного Китая»…

«Генерал, — обращается Пушкин к Александру Бенкендорфу, — я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющнмся туда посольством».
«Милостивый государь, — отвечает поэту пунктуальный Бенкендорф, — желание ваше сопровождать наше посольство в Китай также не может быть осуществлено, потому что все входящие в него лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора».
Уже позднее, после гибели поэта, Василий Андреевич Жуковский напишет графу Бенкендорфу письмо, где прозвучат горькие упреки: «А эти выговоры, для Вас столь мелкие, определяли целую жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу».
Добавлю: и «наслаждения видеть» Азию, древний Китай.
Вторил Жуковскому и еще один современник поэта, знавший его, — французский литератор и дипломат, барон Леве-Веймар: «Для полного счастья Пушкину недоставало только одного: он никогда не бывал за границей».
Древнейшая китайская цивилизация, словно магнитом манила поэта. Если Италия, Англия, Франция — страны, в которых так хотелось побывать поэту и куда давно уже проложили тропы многие русские путешественники, в том числе приятели и родные Пушкина, — были близки и знакомы: понятны их обычаи, язык, культура, то Китай представлялся ему неведомой и экзотической страной. А ведь таким в то время он и был.
Отец Иакинф и барон Шиллинг
Александр Сергеевич готовился и, надо сказать, серьезно к путешествию в Китай. Интерес к этой древней и самобытной стране возник во многом благодаря дружбе поэта с отцом Иакинфом (в миру — Никита Яковлевич Бичурин). Ученый-востоковед, большой знаток китайской культуры, он в совершенстве владел китайским языком, перевел древние хроники и сказания, составил русско-китайский словарь. 14 лет монах Иакинф Бичурин в составе русской духовной миссии прожил в столице Поднебесной.
Из воспоминаний современника: «О. Иакинф был роста выше среднего, сухощав, в лице у него было что-то азиатское… Характер имел немного вспыльчивый и скрытный. Неприступен был во время занятий; беда тому, кто приходил к нему в то время, когда он располагал чем-нибудь заняться. Трудолюбие доходило в нем до такой степени, что беседу считал убитым временем».
Пожалуй, одним из немногих исключений для него был Пушкин. В апреле 1828 года монах Иакинф дарит поэту книгу «Описание Тибета в нынешнем его состоянии с картой дороги из Чен-ду до Хлассы» с дарственной надписью: «Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения».
В следующем, 1829 году он преподносит поэту еще одну книгу «Сань-Цзы-Цзин, или Троесловие», по сути, древнюю китайскую энциклопедию, где были и такие мудрые слова: «Люди рождаются на свет, собственно, с доброй природой…» Александр Сергеевич отзывался об отце Иакинфе, «коего глубокие познания и добросовестные труды разлили свой яркий свет на сношения наши с Востоком», весьма уважительно.
Надо думать, что в петербургском салоне Одоевского, где «сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими, сузившимися глазами», можно было услышать немало увлекательных рассказов ученого-монаха об удивительной далекой стране. И тогда же, наверное, уже строились планы совместного путешествия. Впервые у Пушкина появилась реальная возможность увидеть сказочный Китай своими глазами.
Уже в ноябре-декабре 1829 года начала готовиться экспедиция в Восточную Сибирь и в Китай — русская миссия. В ее подготовке самое деятельное участие принимали знакомцы поэта: отец Иакинф и барон Павел Львович Шиллинг фон Канштадт — дипломат, академик, тонкий ценитель китайской литературы и древностей Востока и… будущий изобретатель электромагнитного телеграфа (!). Вот с какими замечательными людьми предстояло Пушкину совершить путешествие!
Забегая вперед, замечу: отец Иакинф, прибыв в Иркутск (здесь готовилось к отправке в Пекин русское посольство), отправил Пушкину свой очерк о Байкале, напечатанный поэтом в альманахе «Северные цветы» за 1832 год. Рукопись же осталась в пушкинских бумагах как память о такой возможной, но несбывшейся поездке в Китай.
В январе 1830 года, Пушкин и обратился к Бенкендорфу за всемилостивейшим разрешением покинуть пределы России, и ему в том отказали. К слову сказать, столетием ранее, темнокожий прадед поэта Абрам Ганнибал против своего желания был послан в Сибирь «для возведения фортеций» — Селегинской крепости на китайской границе, как иронично записал поэт, «с препоручением измерить Китайскую стену» — недруги «царского арапа» пытались удалить его от двора. Правнука же Абрама Петровича, знаменитого во всей России поэта, мечтавшего посетить Китай, под благовидным предлогом не пустили в далекое и столь заманчивое для него путешествие.
Но даже и после этого учтивого по форме, но жесткого отказа Его Императорского Величества интерес поэта к Китаю не угас.
«Незримый рой гостей…»

Из богатейшей фамильной библиотеки Полотняного завода, калужского имения Гончаровых, где Пушкин гостил вместе с женой и детьми в августе 1834-го, он отобрал для себя в числе других книг и старинные фолианты — «Описание Китайской империи» в двух частях, «с разными чертежами и разными фигурами», издания 1770-х годов, и «О градах китайских».
Возможно, эти же книги читала прежде и юная Наташа Гончарова. В историческом архиве, где хранятся ныне ее ученические тетрадки, есть одна, посвященная Китаю. Поразительно, каких только сведений о древней стране нет на страницах старой детской тетрадки: о государственном устройстве, географическом положении, истории, климате, об особенностях всех китайских провинций. Для 13-летней девочки это просто энциклопедические познания! Так что ей, будущей избраннице поэта, станет понятной давняя мечта ее супруга увидеть Китай.
Отзвуки пушкинских мечтаний можно найти и в стихах, написанных поэтом болдинской осенью 1833 года, сохранившихся в его черновиках:
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей…
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы…
Богдыханы — так на Руси, еще в старинных грамотах, величали китайских императоров, для Пушкина — «знакомцы давние, плоды мечты моей». Знал ли Александр Сергеевич, что своей китайской мечте — Великой Китайской стене — обязан он правителю Ин Чжэну, в будущем богдыхану Цинь Шихуанди, два тысячелетия назад возведшего это чудо света? По велению императора для защиты страны от вторжения гуннов на севере и армии рода Бей-Ю на юге соединены были старые крепостные стены и построены новые. Первым из китайских правителей он стал именоваться именем Шихуанди — «первым божественным правителем». Этот титул носил и китайский богдыхан из династии Цин Сюаньцзун, правивший империей именно в те годы, когда в Китай собирался Пушкин.
Не став реальностью, китайская мечта поэта обратилась в другую ипостась. Как точно эти невольные пушкинские признания соотносятся с воспоминаниями Александры Смирновой-Россет, близкой приятельницы поэта, ценившего ее за оригинальный ум и красоту. «Я спросила его: неужели для его счастья необходимо видеть фарфоровую башню и великую стену? Что за идея смотреть китайских божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочел «Китайскую сироту», в которой нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени Вольтера». Для этого Александру Сергеевичу нужно было увидеть Китай собственными глазами. (Драма Вольтера «Китайская сирота», по словам ее создателя, — «мораль Конфуция, развернутая в пяти актах». В ней Вольтер оспаривает тезис Руссо, будто бы искусство способствует падению нравов в обществе.)
Удивительно, Пушкин всего дважды, и то в заметках, как бы мимоходом, упомянул Японию. А японские пушкинисты, в числе которых немало замечательных исследователей и переводчиков, помнят и гордятся этим. Китаю же, в этом смысле, повезло куда больше: Пушкин упоминает о Поднебесной, ее жителях, столице Пекине десятки раз. И даже в одну из глав «Евгения Онегина», по первоначальному замыслу, должны были войти и эти строки:
Конфуций … мудрец Китая
Нас учит юность уважать,
От заблуждений охраняя,
Не торопиться осуждать…
А ведь Пушкин писал первую главу своего романа в 1823-м, до знакомства с учеными-китаистами. Надо полагать, что философские воззрения Конфуция, как и учение «конфуцианство», имена китайских мудрецов и мыслителей были известны Пушкину еще с лицейских времен. А еще раньше, в детстве, поэт впервые услышал о древней загадочной стране и о многих ее чудесах — фантастических пагодах и дворцах, драгоценных нефритовых Буддах, бумажных фонариках и воздушных змеях.
Пу-Си-Цзинь — «весёлое имя» Пушкин!
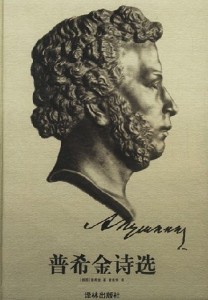
При жизни Александру Сергеевичу так и не удалось пересечь таинственную российскую границу. Но спустя столетие поэтический гений Пушкина сумел преодолеть не только государственные границы, но и хронологические и, может быть, самые сложные — языковые.
Затем были переведены «Станционный смотритель», «Метель», «Барышня-крестьянка», «Моцарт и Сальери». Но то, что Маша Миронова «заговорила» на китайском языке, стоит назвать событием историческим — ведь это был для Китая первый перевод русской прозы.
Начиная с 1934 года, в литературном еженедельнике «Вэньсюэ чжоубао» начинают печатать переводы пушкинских поэтических шедевров, под редакцией поэта Эми Сяо выходит пушкинский сборник стихов.
Но более всего китайцам полюбился «Евгений Онегин» (по-китайски — «Ефугэни Аонецзинь»), известны, по крайней мере, шесть его переводов! «Легендарный роман в стихах «Евгений Онегин» — это величайшее творение Пушкина», — восхищался литературовед Ций Цюбо.
В историю китайского пушкиноведения вошло имя одного из его патриархов — Гэ Баоцюаня, самого блистательного переводчика русского поэта. В Москве он впервые побывал еще в 30-х годах, последний раз — уже полвека спустя, почтенным старцем, он вновь приехал на родину любимого поэта поклониться святым пушкинским местам. В Михайловском, на празднике пушкинской поэзии в 1986 году мне посчастливилось с ним познакомиться.
Китай открывал для себя Пушкина, открывал Россию, русскую душу, русскую культуру. А самого поэта (Пу-си-цзинь — так звучит на китайском «веселое имя» Пушкина) стали почтительно именовать «отцом русской литературы»
«До стен недвижного Китая…»
1937 год. Грустный пушкинский юбилей — 100-летие со дня гибели поэта. Но каким эхом прокатились по всему миру торжества во славу русского гения!
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая…

Памятник А.С. Пушкину в Шанхае
В феврале того года в Шанхае торжественно был открыт памятник Пушкину. В тот день в красивейшей части города, на пересечении улиц Гизи и Пишон, было необыкновенное стечение народа: собрались русские эмигранты, представители китайской интеллигенции и шанхайских властей, дипломаты, сотрудники французского консульства.
Первым выступил председатель Шанхайского Пушкинского комитета К.Э. Мецлер и попросил всех в минуту молчания склонить головы в память о поэте. Дочь генерального консула Франции госпожа Бодэз удостоилась чести перерезать ленточку, и покров, скрывавший памятник, медленно опустился. В ту же минуту раздались ликующие звуки французского военного оркестра, и затем — русский хор с воодушевлением исполнил «Коль славен наш Господь». Архиепископ Иоанн, свершив краткий молебен, окропил памятник святой водой.
Потом мимо памятника поэту (его бронзовый лик был обращен на север, в сторону далекой родины) церемониальным маршем прошли ученики русских школ, к его подножию был возложен венок из живых цветов.
Первый памятник Пушкину в Азии, вне пределов России, воздвигли в Шанхае! И создан он был благодаря тройственным усилиям — русских эмигрантов, китайских властей и французских дипломатов.
Но шанхайскому памятнику поэту довелось стать свидетелем не только славных торжеств, были в его истории и горькие годы забвенья. Уже в том же 1937 году Япония, оккупировав северо-восток Китая, начала войну за захват всей страны. И памятник русскому гению, ставшим символом независимости — у его подножья всегда лежали цветы, был тайно демонтирован. Его восстановили лишь в феврале 1947 года.
Затем пришел черед «культурной революции», и «шанхайский Пушкин» вновь помешал строить счастливую жизнь для китайского народа.
1987-й — год 150-летия со дня гибели поэта — стал, по сути, третьим рождением пушкинского памятника в Шанхае. И, дай Бог, последним. Ныне в стране создано Всекитайское общество пушкинистов, при содействии которого в юбилейном пушкинском году огромным тиражом были изданы собрания сочинений поэта.
Вообще 200-летний юбилей русского гения в Китае праздновали на самом высоком уровне, ведь недавний глава Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь относит себя к числу поклонников российского поэта и даже некоторые пушкинские шедевры декламирует на русском.
Китайская ветка
Китайские потомки Пушкина
Жизнь сама дописала «китайскую страницу» в биографию поэта, которая вопреки всем законам бытия так и не завершилась в том далеком зимнем Петербурге, в старинном доме на набережной Мойки.
Пройдут десятилетия, и в середине XX столетия 17-летняя Елизавета Дурново, прапраправнучка поэта, выйдет замуж за китайца Родни Лиу. И свадьба эта будет отпразднована не где-нибудь, а в Париже, родном городе юной невесты.
Молодые супруги поселятся на Гавайях, близ Гонолулу. Там они обретут свой дом, там же появятся на свет пятеро их детей — два сына и три дочери: Екатерина, Даниэль, Рэчел, Надежда и Александр. Семейство Лиу стремительно разрастается: дочери вышли замуж, сыновья женились, и уже в новых семьях рождаются дети, далекие потомки русского гения.
…Давным-давно, еще в Царском Селе юный поэт-лицеист набросал шутливые строки:
Не владелец я Сераля,
Не арап, не турок я.
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя…
Знать бы Пушкину, что в жилах его потомков будет течь и китайская кровь, а далекого пра…правнука назовут в его честь Александром. Русское имя соединится с китайской фамилией: потомок поэта в седьмом колене Александр Лиу также легко может разобрать китайские иероглифы, как и прочесть на русском стихи своего великого предка.
В пушкинском роду, среди прямых потомков поэта, был и профессиональный китаист — американец Джон Хенри Оверол. Китайским языком он владел в совершенстве, и даже писал на нем стихи.
Правнук поэта граф Михаил Михайлович де Торби, живший в родовом лондонском имении Лутон Ху, снискал известность как художник, постигший каноны древнекитайской живописи. Его рисунки на рисовой бумаге до сих пор восхищают знатоков, равно как и собранная им великолепная коллекция китайского фарфора.
Посмертная судьба поэта… Она богата причудливыми событиями, удивительными родственными и духовными связями. И еще — необычными воплощениями давних пушкинских замыслов и мечтаний. Но не чудо ли, что в XXI столетии китайский живописец изображает Александра Сергеевича в цилиндре и сюртуке, с неизменной дорожной тростью в руке, прогуливающимся по… Великой Китайской стене.
Читайте также: