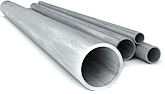Юкио мисима солнце и сталь
Обновлено: 05.05.2024
Тогда же я написал об этом явлении небольшое эссе — таким важным показалось мне мое открытие. Ведь синее небо, явленное моему поэтическому взору, ничуть не отличалось от того синего неба, которое видели окружавшие меня простые портовые парни, — этот факт был очевиден и несомненен. Я давно ждал такого момента, и вот он настал, благословленный солнцем и сталью. Вы спросите, почему мое единство с толпой показалось мне неоспоримым? Да потому, что, когда люди поставлены в одинаковые физические условия, несут одно и то же бремя, поровну делят тяготы, да еще опьянены единым хмелем, — их индивидуальные различия сокращаются до минимума. К тому же опьянение подобного рода отлично от чисто интимного галлюцинирования, вызываемого наркотиком, — то, что я испытал, можно назвать коллективным, массовым галлюцинированием. Моя поэтическая интуиция на сей раз, впервые в жизни, вступила в свои права и реконструировала реальность при помощи слов уже после события, а это значит, что, глядя в беспрестанно меняющееся небо, я проникся новым для меня пафосом действия.
И там, в этой то вздымающей ввысь, то падающей вниз синеве, так похожей на гигантскую хищную птицу, я увидел истинную природу Трагического.
С давних пор у меня было собственное определение Трагического. Его пафос проявляется тогда, когда самое заурядное сознание вдруг возносится на необычайную, недоступную окружающим высоту. Для сознания, первоначально обладающего особо острой восприимчивостью, такой взлет заведомо невозможен. Вот почему тот, кто посвятил себя Слову, может лишь создать трагедию, но участвовать в ней — никогда. Есть и еще одно необходимое условие: восхождение на высоты Трагического всегда основывается на физическом мужестве особого свойства. В момент, когда заурядное сознание, обладающее такого рода силой, соединяет в себе необходимые компоненты — боль, опьянение, невероятную остроту видения, — и происходит рождение Трагического. Назову еще некоторые условия: избыток совершенно «нетрагической» витальности, невежество и определенная неприспособленность к жизни. Для того чтобы человек мог на миг приблизиться к Божеству, в обычной жизни он должен находиться от небес как можно дальше.
Лишь увидев собственными глазами то невероятно близкое к Божеству синее небо, я уверовал в универсальность своего чувственного восприятия. И моя давняя жажда разом утолилась, моя слепая, болезненная вера в Слово растаяла как дым. Я ощутил себя участником трагедии, действующим лицом бытия.
Стоило мне один-единственный раз заглянуть в этот мир, и многое, прежде неведомое, открылось моему разуму. Работа мышц без труда разогнала мистический туман, сотканный словами. Мое прозрение было похоже на эротическое пробуждение юного тела. Я начал понимать и чувствовать, что такое жизнь и что такое действие.
Если бы я тут остановился, это означало бы только, что я, пусть с опозданием, вышел на путь, которым идет большинство людей. Но в моей голове уже зрел новый замысел. Нет ничего удивительного в том, что некая идея созрела во мне и со временем подчинила себе всю мою душу, размышлял я, — такое происходит сплошь и рядом. Но почему этот процесс всегда ограничен пределами одного лишь духа — в них зарождается, ими же и исчерпывается? Я так устал от многолетнего раздвоения души и тела! Разумеется, бывает и так, что движения души выплескиваются в сферу телесного: например, нравственные терзания порождают язву желудка или что-нибудь в этом роде. Но я имел в виду связь совсем иного свойства. Если в детстве моя плотская оболочка возникла в виде абстракции, изъеденной ржавчиной Слова, то нельзя ли обратить этот процесс вспять: взять идею и перенести ее из духа в плоть, выковать из собственной души стальные доспехи для тела?
Эта концепция, концепция Тела, проистекает из моего определения Трагического, о чем я уже писал выше. По моему суждению, тело обладает большей склонностью к восприятию идеи, нежели дух, оно способно впитать ее глубже и основательнее. Ведь для человеческого существа идея — понятие изначально чуждое. Точно так же для души чужеродным является тело, неподвластное контролю разума и управляемое собственными законами — непроизвольными сокращениями мышц, работой внутренних органов, процессами в системах циркуляции. Вот почему человеку не так уж сложно воспринимать собственное тело как метафору идеи — в конце концов они равно отдалены от нашего «я». Когда неистовое, роковое вторжение идеи подчиняет себе человеческую душу, зависимость, в которой оказывается последняя, весьма напоминает зависимость от своей плоти, Так хорошо знакомую каждому из людей. Неконтролируемая, нерассуждающая приверженность идее невероятно схожа с узами, прикрепляющими дух к телу. Полагаю, именно на этом зиждется и христианский догмат Воплощения, и следы гвоздей, чудодейственным образом появляющиеся на ладонях и ступнях религиозных фанатиков.
Солнце и сталь

В относительно недалёком будущем страны как таковые перестали существовать, процесс тотальной урбанизации и глобализации закончился, и теперь на Земле политическими субъектами стали гигантские мегаполисы-государства.
Показать полностью. Один из таких мегаполисов под названием Имморталия, расположенный на Калифорнийском полуострове, имел необычную славу – высшая прослойка общества, состоящая из самых преуспевших в своей сфере людей, имела доступ к технологиям, избавляющей их от, казалось бы, непреодолимого недуга – от смерти. Попадание в эту прослойку обуславливалось не количеством скопленного капитала, не политическим весом и даже не лояльностью к заправляющим в Имморталии корпорациям, социальный лифт работал по принципам меритократии.
Высший свет жил во внутреннем кольце, изолированность большинства населения во внешнем кольце обуславливалась соображениями безопасности, чтобы люди, нежелающие честно подниматься по социальному лифту, не имели возможности нарушать стабильность внутреннего кольца, ведь высшая прослойка, именуемая Бессмертными, обладала достаточной компетенцией и навыками, чтобы поддерживать стабильность и процветание как внутреннего, так и внешнего кольца.
В Имморталии существует система отбора людей из числа наиболее преуспевающих в своей сфере деятельность, будь то врач, художник, плотник или учёный. Отобранные входили в ряды Бессмертных и переезжали из внешнего кольца во внутреннее. Множество жителей внешнего кольца всю свою жизнь мечтает попасть во внутреннее кольцо и получить доступ к бессмертию, но случается это с очень маленьким количеством людей.
За каждым человеком во внешнем кольце Имморталии следит комитет Бессмертных, и если он сочтёт человека достаточно умелым в той или иной профессии, то этому человеку приходит приглашение во внутреннее кольцо. Но обязательным условием для участия в программе по отбору кандидатов был категорический отказ от сексуальных и любовных межполовых отношений, а, следовательно, и от продолжения рода. Это объяснялось тем, что, став одним из Бессмертных человек обречён на наблюдение за тем, как любовь всей его жизни и его дети состарятся и умрут, а это может и будет влиять на стабильное эмоциональное состояние Бессмертного, что недопустимо в силу того, что каждый Бессмертный посвящает себя работе для процветания Имморталии.
Далеко не все были готовы отказаться от любви и детей, чтобы иметь шанс вечно жить во внутреннем кольце в роскоши и достатке с другими Бессмертными. Но так как все в Имморталии были обязаны своим процветанием Бессмертным, то людей, которые не видели смысл жизни в обретении бессмертия, или того хуже, выступая с религиозных позиций всячески критиковали саму возможность становления Бессмертным, считали маргиналами в обществе мегаполиса-государства. Любовь, дружба, дети, секс, религия – всё это имело мало значения для большинства жителей Имморталии. Более того, всё это подвергалось стигматизации как пережиток прошлых голодных времён, которые продолжались бесконечными поколениями, пока не явились Бессмертные и не создали край вечного изобилия.
К становлению Бессмертным стремился и Джейкоб, талантливый художник внешнего кольца. В следствии того, что общество Имморталии было автоматизировано практически во всех сферах и не зависело от невозобновляемых ресурсов, то людей творческих профессии было как никогда много, поэтому и конкуренция при отборе в Бессмертные была среди художников очень высокой.
И вот однажды к Джейкобу пришло так желанное им приглашение во внутреннее кольцо, это означало, что из сотен тысяч художников в этом году был выбран именно он. Недолго думая, окрылённый предвкушением бессмертия, Джейкоб собрал свои любимые картины, которые он хотел увезти с собой во внутреннее кольцо, и отправился в путь.
Пролетая границу внешнего и внутреннего кольца Джейкоб был ошарашен, хоть он и жил во внешнем кольце Имморталии, где жизнь по земным меркам была богатой даже у самого законченного люмпена, но то, что он увидел во внутреннем кольце было выше любых представлений о роскоши и научно-техническом прогрессе. Наконец Джейкоб прибыл в центральное летучее здание внутреннего кольца, где его должны были посвятить в тайну бессмертия и ввести в ряды Бессмертных, тем самым оправдав всё его существование, которое он посвятил именного этому моменту.
На месте он встретил многих людей, которыми восхищался, будучи жителем внешнего кольца, и по-хорошему завидовал каждый раз, когда очередного его кумира приглашали стать Бессмертным. Джейкоб заговорил с одним из них, в котором узнал коллегу-художника, чьими работами вдохновлялся с детства. Он спросил его об истории написания одной из его картин, но тот, почему-то, неохотно общался на эту тему, будто бы вовсе не помнит или не знает об этой картине. Это показалось Джейкобу странным, как и манера общения художника, не было похоже, что он вообще разбирается в живописи. Особенно странным Джейкобу показалось то, что он видел повсюду семьи с детьми и парочки, которые прогуливались под руку. Разве Бессмертные не отказались от любви и детей, точно как они призывают сделать это жителей внешнего кольца? Ровно как они убедили сделать это самого Джейкоба.
Гнетомый мыслями Джейкоб явился в зал, где он должен был узреть технологии, которые победили смерть, и самому стать Бессмертным. Но единственное и последнее, что Джейкоб увидел в этом зале, были хохочущие Бессмертные, он увидел, как двое крепких людей держат его, заломав руки, как ещё один, на вид престарелый и очень болезненный мужчина, извлекает с затылка какую-то плату, трясущимися руками прислоняет эту плату к затылку Джейкоба и та, доставляя нечеловеческую боль, ввинчивается в его череп. Последнее, что видел Джейкоб перед смертью, перед тем как его собственное «Я» растворилось без остатка, было падающее тело старика, который только что продлил свою жизнь на то количество лет, которое было отведено судьбой телу молодого парня, некогда бывшего художником.
Не было никаких Бессмертных, не было никаких технологий, которые одолели смерть. Была лишь клика сверхбогатых технократов, которые нашли способ посредством технологий переносить сознание из одного тела в другое. Не было никаких небожителей, которые посвящали свою вечную жизнь служению Имморталии, были лишь морально разложившиеся трусы, которые соткали такую ложь, чтобы не просто заманивать людей, для продления жизни, перенеся своё сознание из уже умирающего тела в очередной свежий сосуд, но и для удовлетворения своих больных наклонностей, обусловленных комплексом бога. Не было никакого меритократического социального лифта, была лишь больная прихоть озверевших технократов, которые поставили себя выше всех людей и всех богов. Не было никакого страха за стабильность мудрого правления Бессмертных, граница между кольцами существовала только для сокрытия великой лжи Имморталии. У потенциальных сосудов не должно было остаться ни детей, ни любимых, которые могли бы заподозрить неладное. Бессмертие в Имморталии обрели лишь алчность, жадность, лживость и порок.
«Солнце и сталь» и другие эссе Юкио Мисимы
О разных эссе Мисимы. Ранее переводил слова БАПа о Мисиме.
Некоторые мемуары и размышления за два года перед суицидом. Короткая книга, рекомендую.
О писательстве говорит, взаимодействии литературы с телом, о фехтовании и боксе. О теле интересные рассуждения, о смерти, Солнце, существовании, мужских союзах. Говорит о том, как искусство искажает реальность и обманывает людей, в стиле Солоневича. О словах — инструменте писателя, и о более правильной жизни без слов. Мышцы говорят вместо слов, слова — слабые доказательства, а боль — хорошо. Полет на истребителе описывает, который его не впечатлил.

В юности Мисима считал Солнце врагом. Он не умер молодым, потому что не имел красивого тела. Мисима искал свой путь, перешёл от ночи ко дню, считал, что воином-философом нужно быть, как Платон говорил. Писателю нужно жить, а не только мечтать. Писатель критикует писателей, можно сказать.
Некоторые мысли повторяются с БАПом о современной комфортной жизни без цели и о логоцентризме. Видно немного менталитет японский, хотя люди писали, что Мисисма на Европе взращён.
Не особо впечатлила книга, как и мемуары Юнгера, потому что все слишком расхайпили её, но, может, опять же лучше книги на эту тему нет. Если нравятся книги Мисимы, то здесь объясняется его отношение к литературе и жизни, лучше поймёте писателя, и похвалу физкультуре разными словами всегда полезно читать.
Не знаю, каким Мисима был до начала своей трансформации, и как это отразилось на его книгах. Книги накачанного парня, наверное, лучше книг хилого писателя, которых он критиковал в этом эссе.
Я не фанатею от Мисимы, по его эссе и половине одного романа он кажется высокомерным, будто иногда он хочет казаться круче, чем он есть, не похож на искренне великого человека. Но даже если он не гений, если он вырос слабым художником, он преодолел какие-то свои недостатки и смог улучшить себя и свою жизнь в эру без испытаний, что достойно уважения. Он понимал ничтожный характер нашего времени, что после войны Япония и японцы сильно испортились.
Стиль

Сперва прочитал на английском: написано сложно и непонятно со странными сравнениями. На русском намного понятнее, будто другого автора читаешь — на моей памяти эта книга больше всего отличается от перевода. В русском переводе тоже есть ошибки, которых в английском нет. Например, «хилая грудь» означает, торчащие ребра, а «слабый желудок» — дряхлый живот. В цитатах, которые я выписывал, я исправил ошибки. Оба перевода для полного понимания нужно читать.
Иногда написано сложно и непонятно, но иногда отличные сравнения и образы, афоризмы неплохие можно перечитывать. Во всех эссе бывают простые, понятные абзацы, которые прямо говорят суть, а не ходят вокруг да около — напоминал Уэльбека тогда.
Другие эссе

Перевёл интересные отрывки из Манифеста Общества щита. Может, когда-нибудь переведу отрывки из остальных текстов.
Контрреволюционный манифест рекомендую прочитать. Я поддерживаю противников коммунизма. После войны в Японии, как и на Западе, были коммунистические группы, протесты, бунты, насилие и пр., и реакция на них.
Дополнение к этому манифесту менее интересное, но человек перевёл на английский для любопытных. Мне понравилось предложение: «Если появляется что-то неудобное, что не совпадает с их положениями, они обычно объявляют их исключениями из правил и продолжают защищать священность и универсальность их принципов».
Мисима интересно рассуждал о женщинах в духе Шопенгауэра. Не знаю, читал ли он его или сам до всего дошёл. Простые и четкие мысли, зрит в корень. Другое интересное эссе о «женщинах, которые ему нравятся». Его труднее читать, менее понятное, но рекомендую оба.
Юкио мисима солнце и сталь
В последнее время я стал чувствовать, как во мне накапливается нечто такое, чему не дает выхода объективистский вид искусства, именуемый художественной литературой. Мне не двадцать лет, и я не поэт-романтик (впрочем, я и в двадцать лет романтиком не был), поэтому я долго искал подходящий жанр ив конце концов изобрел некую трудноопределимую разновидность исповедальной прозы пополам с критической эссеистикой. Назовем мое изобретение «критической исповедью». Если исповедь — это ночь, а критика — день, то я буду держаться где-то на порубежье, в свете вечерних сумерек. Скажем так — «имярек в свете сумерек»; хотя повествование и ведется от первого лица, не думайте, что речь идет о моей персоне. С вами будет говорить, так сказать, «сухой остаток», образовавшийся после того, как слова сказаны. Они сказаны и ушли, а говорящее с вами «я» неподвластно движению слов.
Я долго размышлял, что же оно собой представляет, это самое «я», и был вынужден прийти к следующему выводу: оно как раз соответствует месту в пространстве, занимаемому моим телом. «Язык тела» — вот название того, чему я не мог найти определения.
Если уподобить «я» дому, то тело — это сад, окружающий жилище. Я мог по собственному усмотрению содержать свой сад в идеальном порядке или дать ему прийти в запустение, зарасти сорными травами. Свободу этого выбора понимает не всякий. Многие считают, что над их садом властвует некая сила, которую они называют судьбой.
Однажды я решил привести мой сад в надлежащий вид и потихоньку приступил к работе. В качестве садовых инструментов я использовал солнце и сталь; неугасимое сияние светила и металл стали моими главными помощниками. И по мере того, как на ветвях культивируемого сада зрели плоды, тело приобретало для меня все большее и большее значение.
Перемена стала заметна не сразу — не в один день, не в одну ночь. И, разумеется, решение возделывать сад возникло не само собой, оно имело глубокие корни.
Когда я вспоминаю свое раннее детство, то оказывается, что память слова во мне появилась гораздо раньше, чем память тела. У нормальных людей жизнь начинается с ощущения своей плоти, а уж потом появляется слово. Ко мне же первыми пришли слова, а тело медлило, упрямилось. Когда я наконец с ним познакомился, оно уже обрело черты умозрительности и, конечно же, было все изъедено словами.
Обычная последовательность событий такова: стоит деревянный столб, потом в нем поселяются муравьи и начинают его грызть. В моем случае первыми возникли муравьи, и лишь затем постепенно появился наполовину источенный ими столб.
Не нужно пенять мне на то, что я сравниваю слова, орудие своего ремесла, с муравьями. Ведь что такое мое ремесло? Оно подобно гравировке — слова, как азотная кислота, вытравливающая медную пластину, разъедают реальную жизнь, превращая ее в произведение искусства. Пожалуй, это не совсем точное сравнение. Медь и азотная кислота, естественные творения природы, перед ее лицом равны, слово же и реальность — нет. Слова — это средство, с помощью которого реальность преображается в абстрактные образы, предназначенные для рассудочного восприятия. Они подвергают действительность коррозии и в этом процессе неизбежно корродируют сами. Попробую применить другое сравнение, более подходящее. Представьте себе желудочный сок, выделяющийся столь обильно, что он не только растворяет пищу, но и изъязвляет стенки желудка.
Многие, вероятно, не поверят, что подобное явление может происходить в душе ребенка, однако со мной случилось именно это. Разыгравшееся в моем сознании действо заставило меня стремиться к двум совершенно разным, противоположным целям. С одной стороны, мне хотелось подхлестнуть коррозию реальности и превратить эту химическую реакцию в дело всей моей жизни; с другой стороны, во мне постепенно крепло желание вырваться в сферу, где слова не имеют никакой ценности, и там встретиться с подлинной действительностью.
Если человек родился на свет писателем и процесс его созревания идет естественно, так сказать, здорово, два этих различных по своей сути устремления не враждуют друг с другом, а, наоборот, вступают в сотрудничество: совершенствование слова дает благословенные плоды — помогает заново открывать реальность. Именно «заново», ибо с самого начала жизни такой писатель уже обладал знанием реальности, постигнув ее плотью, когда это знание еще не было замутнено словами. В моем случае все обстояло иначе.
Учителей приводили в недоумение мои школьные сочинения, потому что в них не ощущалось ни малейшего контакта с действительностью. Очевидно, еще ребенком я инстинктивно угадал хитроумную, стерильную суть Слова и использовал лишь его позитивное корродирующее действие, избегая коррозийности негативной.
Нет, выражусь проще: желая сохранить чистоту Слова, я стремился уберечь его от соприкосновения с жизнью. Я шевелил своими корродирующими щупальцами так осторожно, чтобы даже ненароком не задеть реальность, не подвергнуть ее коррозии. Так или примерно так было устроено мое сознание.
Естественным следствием подобных умонастроений стало то, что я соглашался признавать существование реального и телесного лишь в тех областях, где Слово бессильно. Так «реальность» и «тело» сделались для меня синонимами, объектом жгучего, почти фетишистского интереса. Я и сам не почувствовал, когда мое изначальное увлечение Словом распространилось и на эту сферу, таким образом, во мне уживались два фетишизма диаметрально противоположного толка.
Поначалу я был явным и несомненным сторонником Слова, предоставив реальность, тело, действие другим. Мое нынешнее предубеждение против всех и всяческих слов — безусловно, порождение этой искусственно созданной антиномии, да и глубоко укоренившееся в моем сознании непонимание сути реальности, тела, действия происходит из того же источника.
Антиномия эта зижделась на твердом убеждении в том, что я не властен ни над реальностью, ни над телом, ни над действием. Плоть вошла в мою жизнь с немалым опозданием, так что я встретил ее, успев вооружиться Словом. Полагаю, что под влиянием первого из упомянутых мною фетишизмов я отказался признать тело своей собственностью. Если бы я признал, что тело принадлежит мне, Слово утратило бы стерильность, реальность вторглась бы в мою жизнь, встреча с ней стала бы неизбежной.
Было одно примечательное обстоятельство: мое упорное нежелание признавать существование тела отчасти объяснялось неким глубоким, но по-своему прекрасным заблуждением. Я не знал, что мужское тело никогда не проявляет себя в виде объективной реальности. Мне казалось, что иначе просто не может быть. Когда же тело предстало передо мной, пугающим образом противореча реальности, отвергая самое ее существование, я пришел в ужас, словно столкнулся с кошмарным чудовищем, и ошибочно уверил себя в том, будто мой случай единственный в своем роде. Мне было невдомек, что и другие мужчины, все мужчины, рано или поздно делают для себя подобное открытие. Страх и замешательство, порожденные этим заблуждением, неминуемо заставили меня выдумать для себя и реальность, и тело — какими, по моему мнению, они должны были бы быть. Поскольку мне и в голову не приходило, что тело всякого мужчины по самой своей природе отвергает собственную экзистенцию, я приписал выдуманному мной «идеальному телу» те качества, которыми не обладал. Раз, думал я, мое ненормальное сосуществование с собственной плотью вызвано корродирующим воздействием слов, то в «идеальном теле» и «идеальной действительности» слов не должно быть вовсе. Рисовавшееся моему воображению тело должно было обладать двумя главными характеристиками: красотой формы и абсолютной безгласностью.
Если коррозия способна не только разрушать, но и творить, то плодом ее творчества как раз и будет «идеальное тело», рассуждал я. Высшее выражение словесного искусства — абсолютная имитация физической красоты, иными словами, поиск нетленной, неподвластной коррозии реальности.
В этой логике таилось явное противоречие, ибо я одновременно лишал Слово его основной функции и отбирал у реальности самую ее суть. И в то же время мой «метод» являл собой истинное чудо ловкости и мастерства, давая возможность уберечь Слово и его объект, действительность, от их встречи лицом к лицу.
Когда я начал писать, моя душа, сама о том не подозревая, сидела разом в двух седлах и пыталась управлять бегом своих несущихся в разные стороны коней, что под силу разве что одному только Богу. А жажда познать жизнь и тело тем временем становилась все сильнее.
Много лет спустя, благодаря солнцу и стали, я выучил новый язык — язык тела. Он стал для меня вторым родным, знанием не врожденным, а обретенным. Именно об этом своем образовании я и хочу рассказать. Полагаю, что в истории педагогики и воспитания другого такого примера не существует, поэтому разобраться в моей истории будет непросто.
В детстве на меня произвело неизгладимое впечатление зрелище храмовой процессии: толпа молодых парней тащила паланкин с алтарем, пребывая в состоянии полного экстаза — лица отрешенные, взгляд отсутствующий, некоторые даже глядели, запрокинув головы, куда-то ввысь. Я смотрел на них, безуспешно пытаясь понять, что за таинственная сила светится в их глазах, и мое сердце наполнялось мучительным беспокойством. Мое воображение было не в силах уяснить природу массового опьянения неистовой физической нагрузкой. Долгие годы эта загадка не давала мне покоя, и ключ к ней отыскался, лишь когда я начал изучать язык тела, когда сам вместе с другими потащил на плечах алтарь. Оказалось, что мужчины просто смотрели в небо и все. Никаких видений в это время перед их взором не возникало — только ярко-синее сентябрьское небо. Но зато другого такого неба в своей жизни я не видывал: оно было очень странным — то бесконечно удалялось ввысь, то вдруг лавиной падало вниз; оно постоянно преображалось, соединяя в себе прозрачный свет и безумие.
Читайте также: