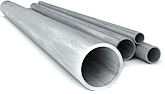Север крошит металл но щадит стекло учит гортань проговаривать впусти
Обновлено: 05.07.2024
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне --
как не сказано ниже по крайней мере --
я взбиваю подушку мычащим "ты"
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.
1975 -- 1976
x x x
Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговаривать "впусти".
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.
Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.
И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, "прощай".
Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.
Это -- ряд наблюдений. В углу -- тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.
Зимний вечер с вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.
Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившем сквозь бахрому
оттиском "доброй ночи" уст,
не имевших сказать кому.
Потому что каблук оставляет следы -- зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по прохожим себя узнают дома.
Что сказать ввечеру о грядущем, коли
воспоминанья в ночной тиши
о тепле твоих -- пропуск -- когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней, натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.
Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с
плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса
налетают порывы резкого ветра. Голос
старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла.
Низвергается дождь: перекрученные канаты
хлещут спины холмов, точно лопатки в бане.
Средизимнее море шевелится за огрызками колоннады,
как соленый язык за выбитыми зубами.
Одичавшее сердце все еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны, -- в лужице под лежачим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда -- все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос,
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум -- крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.
Что касается звезд, то они всегда.
То есть, если одна, то за ней другая.
Только так оттуда и можно смотреть сюда:
вечером, после восьми, мигая.
Небо выглядит лучше без них. Хотя
освоение космоса лучше, если
с ними. Но именно не сходя
с места, на голой веранде, в кресле.
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда,
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не задержишь взгляда.
В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лес скучает по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона.
Настоящий конец войны -- это на тонкой спинке
венского стула платье одной блондинки,
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.
1975, Мюнхен
x x x
Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук,
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,
беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.
Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат -- не те там злаки,
и доро'гой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.
Тихотворение мое, мое немое,
однако, тяглое -- на страх поводьям,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно заполночь ища глазунию
луны за шторою зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там не размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?
Темно-синее утро в заиндевевшей раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит "ганнибал" из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,
так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.
С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скашивая облака,
совпадает -- чем бы не замели
следы -- с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.
Заморозки на почве и облысенье леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,
ежась, число округляешь до "ох ты бля".
Ты не птица, чтоб улететь отсюда,
потому что как в поисках милой всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом,
проницаемой стужей снаружи, отсюда -- взглядом,
за бугром в чистом поле на штабель слов
пером кириллицы наколов.
* Ранний вариант последних двух строк: "наколов на буквы пером слова, / как сложенные в штабеля дрова". -- С. В.
x x x
Всегда остается возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
На пустой голове бриз шевелит ботву,
и улица вдалеке сужается в букву "У",
как лицо к подбородку, и лающая собака
вылетает из подоворотни, как скомканная бумага.
Улица. Некоторые дома
лучше других: больше вещей в витринах;
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
то, во всяком случае, не внутри них.
Итак, пригревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел.
Можно сказать, что на Юге в полях уже
высевают сорго -- если бы знать, где Север.
Земля под лапкой грача действительно горяча;
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови,
и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас,
но обмякшее тело и лужу крови.
Если что-нибудь петь, то перемену ветра,
западного на восточный, когда замерзшая ветка
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
В полдень можно вскинуть ружью и выстрелить в то, что в поле
кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившемся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. Иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра.
. и при слове "грядущее" из русского языка
выбегают черные мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
После стольких лет уже безразлично, что
или кто стоит у окна за шторой,
и в мозгу раздается не земное "до",
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.
Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это --
города, человеков, но для начала -- зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт.
Свобода --
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.
Часть речи (цикл из 20 стихов)
Александр Еременко
Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил,
что мой взгляд, прежде чем до тебя добежать, раздвоится.
Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию в лицах.
Тебя не было вовсе, и, значит, я тоже не был.
Мы не существовали в неслышной возне хромосом,
в этом солнце большом или в белой большой протоплазме.
Нас еще до сих пор обвиняют в подобном маразме,
в первобытном бульоне карауля с поднятым веслом.
Мы сейчас, как всегда, попытаемся снова свести
траектории тел. Вот условие первого хода:
если высветишь ты близлежащий участок пути,
я тебя назову существительным женского рода.
Я, конечно, найду в этом хламе, летящем в глаза,
надлежащий конфликт, отвечающий заданной схеме.
Так, всплывая со дна, треугольник к своей теореме
прилипает навечно. Тебя надо еще доказать.
Тебя надо увешать каким-то набором морфем
(в ослепительной форме осы заблудившийся морфий),
чтоб узнали тебя, каждый раз в соответственной форме,
обладатели тел. Взгляд вернулся к начальной строфе.
Я смотрю на тебя из настолько далеких. Игра
продолжается. Ход из меня прорастет, как бойница.
Уберите конвой. Мы играем комедию в лицах.
Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.
Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.
У меня под ногой (когда плюну — на них попаду)
шли толпой бегуны в непролазном и синем аду,
и, как тонкие вши, шевелились на них номера.
У меня за спиной шелестел нарисованный рай,
и по краю его, то трубя, то звеня за версту,
это ангел проплыл или новенький, чистый трамвай,
словно мальчик косой с металлической трубкой во рту.
И пустая рука повернет, как антенну, алтарь,
и внутри побредет сам с собой совместившийся сын,
заблудившийся в мокром и дряблом строенье осин,
как развернутый ветром бумажный хоккейный вратарь.
Кто сейчас расчленит этот сложный язык и простой,
этот сложенный вдвое и втрое, на винт теоремы
намотавшийся смысл. Всей длиной, шириной, высотой
этот встроенный в ум и устроенный ужас системы.
вот болезненный знак: прогрессирует ад.
Концентрический холод к тебе подступает кругами.
Я смотрю на тебя — загибается взгляд,
и кусает свой собственный хвост. И в затылок стучит сапогами.
И в орущем табло застревают последние дни.
И бегущий олень зафиксирован в мерзлом полене.
Выплывая со дна, подо льдом годовое кольцо растолкни —
он сойдется опять. И поставит тебя на колени,
где трехмерный колодец не стоит плевка,
Пифагор по колени в грязи, и секущая плоскость татар.
В этом мире косом существует прямой пистолетный удар,
но однако и он не прямей, чем прямая кишка.
И в пустых небесах небоскреб только небо скребет,
так же как волкодав никогда не задавит пустынного волка,
и когда в это мясо и рубку (я слово забыл)
попадет твой хребет —
пропоет твоя глотка.
В кустах раздвинут соловей.
Над ними вертится звезда.
В болоте стиснута вода,
как трансформатор силовой.
Летит луна над головой,
на пустыре горит прожектор
и ограничивает сектор,
откуда подан угловой.
*
*
*
*
*
Автор Козлов Владимир
*
ПОЧЕМУ ЗАМОЛЧАЛ ЕРЁМЕНКО – ЧТО ОБЪЯСНЯЕТ ЕГО ПОСЛАНИЕ БОСХУ?
*
Статья взята в электронном журнале "Prosodia*
*
*
*
Одна из секций Сапгировских чтений, которые прошли в РГГУ 19-20 ноября 2021 года, была посвящена поэту Александру Еременко. Владимир Козлов выступил на этой конференции с разговором о том, почему поэт замолчал в начале девяностых, попытавшись показать, какой ответ на этот вопрос дает поэзия Еременко.
Известно, что поэт Александр Еременко где-то в первой половине девяностых условно замолчал. Нужно сказать, что не замолчал совсем, скорее кардинально сократил объемы публикуемого, но это воспринималось как молчание. Причем, сложился своеобразный миф о молчании Еременко, о чем писал, например, Игорь Караулов, - мол, пока мы тут суетимся, «король поэтов» молчит, а мог бы и сказать, и, если бы сказал, нам бы мало не показалось, - таково, в общем, содержание мифа.
Из того, что сказано о поэзии Еременко, мне важно в сказанном выделить только один, наиболее интересный для меня мотив – это мотив отмеченного М.Липовецким противоречия между «концепцией поэзии как игры» и «философской лирикой по преимуществу».
РУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ ПОЭТА И ПОЭЗИИ У ЕРЁМЕНКО
Стихи любого поэта содержат в себе определенную концепцию поэзии, понимание места, которое занимает поэзия в мире. Тема поэта и поэзии в русской традиции настолько разрослась, что у Еременко она появляется в основном в виде набора высоких стереотипов, которые так или иначе снижаются, гипертрофируются, разрушаются, пародируются, но точно не присваиваются.
На этом ироничном, отчасти глумливом жесте, требовавшем маски, держалось очень многое в восприятии поэзии Еременко – в конечном счете, статус «короля поэтов», конечно, получил именно созданный поэт-персонаж, который пародировал быт писательского поселка Переделкино.
Это был персонаж, который очевидным образом выламывался из ряда поэтов. Еременко пришел в поэзию как принципиальный другой по отношению к самой поэзии – старший во всех смыслах матрос с техническим образованием, изъясняющийся с максимальной категоричностью тона, афористичной и распорядительной внятностью стиха и синтаксиса.
То, что он произносил уверенным и взрослым тоном авторитетного человека, в глазах кисейных гуманитариев должно было сходить за плоды жизненного опыта рабочего человека из народа, а оказывалось на практике обнажением «запрограммированного уродства» уже самим строем поэтического языка.
Авторитет, от которого публика как бы ожидает расстановки по полочкам, авторитетно проповедовал «идиотизм, доведенный до автоматизма» и «автоматизм, доведенный до идиотизма». Язык Еременко в поэзии – подобно, например, языку Андрея Платонова в прозе – в существенной степени изображает не только мир, но и своего особенного носителя, придуманного или выношенного автором-творцом.
Язык Еременко во многом и есть персонаж Еременко, потому он сам был таким противником анализа какого-то особенного «мировоззрения» поэта. Язык Еременко во многом и есть персонаж Еременко, потому он сам был таким противником анализа какого-то особенного «мировоззрения» поэта. Но для сегодняшнего разговора особенно важно услышать другой голос. Иногда в его творчестве за бравадой лирического персонажа можно распознать голос автора-творца. Этот голос позволяет увидеть поэзию в совершенно иной роли.
ИЕРОНИМ БОСХ КАК СОБЕСЕДНИК ЕРЁМЕНКО
Одним из текстов, в которых этот голос слышен, кажется стихотворение «Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил…», посвященное Иерониму Босху (полностью они приводится ниже этой заметки). Исключительность этого послания – а этот жанр представлен в поэзии Еременко достаточно обширно – в том, что его адресат находится на такой дистанции – именно это и выражается первыми строками, - что весь арсенал средств, пригодный для современников, здесь перестает работать. И этот повод отбросить арсенал поэтических средств, необходимых в разговоре с современниками.
Это послание фиксирует важную метафизическую точку – разговор с адресатом начинается как бы до того, как будет разыграна «комедия в лицах», и в этом во многом смысл разговора. Потому что «комедия в лицах» - это уже не разговор, а придуманный заранее спектакль. В этом стихотворении автор-творец очень внятно прочерчивает границу, после пересечения которой, как после попадания в луч прожектора, к «треугольнику» «прилипает» его «теорема», а явление облекается в слово, чтобы быть узнанным «обладателями тел».
Все лирическое высказывание в данном случае излагается как бы в виду этой точки вненаходимости, как ее называл М.Бахтин. В лирике такое происходит, как правило, в оде.
Но пока отвлечемся на адресата. Очевидно, что Иероним Босх – неслучайно выбранный собеседник в пространстве большого времени. Вообще поэзия Еременко в силу цитатности и даже центонности населена культурными и поэтическими деятелями, чьи образы, как правило, сливаются в один – утрированный образ поэта Вообще поэзия Еременко в силу цитатности и даже центонности населена культурными и поэтическими деятелями, чьи образы, как правило, сливаются в один – утрированный образ поэта. А вот Босх – собеседник.
Это автор, воплощавший темное Средневековье с его представлением о пропитанном грехом мире в момент начала Возрожденья с его верой в то, что человек есть мера всех вещей. Очевидно, что первая парадигма, но примененная к советскому миру, Еременко гораздо ближе. Как ни воспевал он свободу, но в Возрождении – в том числе постсоветском – он себя не видел. Посвящение Босху буквально звучит так: «Иерониму Босху, изобретателю прожектора». Конечно, это посвящение несет на себе печать странности или чудаковатости, характерной для маски, созданной Еременко.
Почему «изобретатель прожектора»?. Я не встретил ни одного объяснения этого технократического и чудаковатого определения художника, поэтому предложу свое. Возможно, это отсылка к работе Босха «Вознесение праведников», верхнюю треть которой занимает выполненная на фоне черного неба световая воронка, по которой праведники в сопровождении ангелов летят к свету.
Рискну сказать, что текст Еременко, посвященный Босху, настолько же исключителен в творчестве поэта, насколько исключительна и эта работа в творчестве нидерландского мастера гротеска, известного прежде всего изображениями мучений грешников в аду. И «изобретение прожектора» в данном случае может пониматься как путь спасения в контексте ада. Этот контекст, только на позднесоветском материале, мы находим и в поэзии Еременко. В третьей части стихотворения мы видим луну и прожектор на пустыре, функция которого совсем не спасение – он «ограничивает сектор, откуда подан угловой».
То есть главное – за пределами освещенного сектора. У Босха, надо сказать, за его пределами – ад и мрак, но, похоже, Еременко нет особенного дела до того, что хотел сказать Босх, а этом смысле послание здесь как жанр себя не осуществляет совершенно, Босх в собеседника не превращается, в некоторым смысле чуда не произошло.
Есть и еще один контекст. Стихотворение было опубликовано во втором номере журнала «Урал» за 1989 год. За два года за этого по советскому телевидению начала выходить информационно-аналитическая программа «Прожектор перестройки», которая ассоциировалась со свободой слова нового времени и подъемом социального оптимизма. Вполне возможно, что на него Еременко посчитал необходимым откликнуться метафизическим пессимизмом, а точнее – совершенно иным пониманием свободы.
ОДА ХАОСУ И НЕВЫРАЗИМОСТИ
Несмотря на заявленный жанр послания, стихи Иерониму Босху ближе жанру оды. В руках Еременко этот жанр становится парадоксальным. Вообще-то в основе сюжетики жанра обретение такой точки зрения, с которой мироздание открывает на время свое устройство – и это откровение порождает у наблюдателя тот или иной вариант состояния аффекта.
В стихотворении Еременко такая точка безусловно есть, но открывается с нее не поражающий воображение порядок, а настолько же поражающий беспорядок, в котором автор-творец, несмотря на очевидность для читателя предстающего перед ним хаоса, упорно видит именно порядок.
Вот божественный знак: прогрессирует ад.
Концентрический холод к тебе подступает кругами.
Я смотрю на тебя – загибается взгляд
и кусает свой собственный хвост. И в затылок стучит сапогами.
По сути, это изображение совершенно герметичного конечного мира, который устроен как жесткая система, очень напоминающая ад. Вариантов изображения такой системы в творчестве Еременко много, и в целом тема оды как ключевого жанра этой поэзии нуждалась бы в отдельной проработке. Но здесь в этом стихотворении мы видим, что в мир фирменной для поэта оды хаосу впущена прямая рефлексия автора-творца.
Кто сейчас расчленит этот сложный язык и простой,
этот сложенный вдвое и втрое, на винт теоремы
намотавшийся смысл.
«Винт теоремы» - это пространство выраженности, пространство внутри луча прожектора, к которому у автора нескрываемое презрение. К тому, что всплыло из сферы невыразимого, очень легко найти «надлежащий конфликт», «увешать» это «набором морфем» - «чтоб узнали тебя, каждый раз в соответственной форме, обладатели тел». Даже выражение «обладатели тел» призвано дискредитировать выраженность телом. Подразумевается, что у тел есть «обладатели», о которых мы ничего не знаем.
Доказательство «теоремы» тоже возможно только после «всплытия» «треугольника». И теорема только то и может, что намотать на свой «винт» «сложенный вдвое и втрое» смысл – то есть совершить над ним насилие. И слово, таким образом, становится частью этой индустрии насилия. Недаром в финале второй части этого стихотворения, оно само оказывается результатом крайнего насилия.
И в пустых небесах небоскреб только небо скребет,
так же как волкодав никогда не задавит пустынного волка,
и когда в это мясо и рубку (я слово забыл)
попадет твой хребет –
пропоет твоя глотка.
Настоящая поэзия Еременко, конечно, в этом образе волка, которому волкодав не страшен. И если мы доводим, безусловно, ключевой для поэзии Еременко образ свободы до предела, то мы получаем именно этого волка, которого ничего не заставляет выть на луну. Смысл, который не просто не страдает от невыраженности, более того – он страдает от выраженности, эта выраженность есть результат насилия над смыслом.
Мы видим фактически певца невыразимого – это традиция, которая имеет глубокие истоки в русской поэзии. Это традиция, которая в конечном счете дала русской поэзии символизм. Видеть в насквозь концептуальном Еременко, сколь бы его не отстраивали от концептуалистов, символистскую традицию, конечно, как минимум непривычно. Но здесь самое время сказать, что самым ярким выражением этой традиции в поэзии Еременко стало как раз последующее молчание.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДРУГОГО ЕРЁМЕНКО
То есть крайняя степень обретаемой свободы, идеал которой всегда присутствовал в поэзии Еременко, - это молчание в состоянии сложности, не нуждающейся в упрощении через выражение. Можно придумать и другие причины. Жест, с которым пришел Еременко в поэзию, в силу перемен в обществе потерял опору в виде сложноустроенного социального контекста Жест, с которым пришел Еременко в поэзию, в силу перемен в обществе потерял опору в виде сложноустроенного социального контекста.
Жизнь стала плоской и примитивной – а потому и шокировать призывом «еще примитивнее» было уже невозможно. Образ поэта, созданный Еременко и работавший в восьмидесятые, лишился контекста, который делал его «королем». Среда перестала быть чувствительной к поэзии и ее событиям. И оказалось, что для Еременко это было очень важно: показателен рассказ Евгения Бунимовича о том, как поэт пришел к нему ночью с намерением сжечь только вышедшую книжку – это фактически было признание в выпадении из современности.
Нужно сказать, что далеко не всем поэтам эта связь с современностью нужна и менее всего, пожалуй, поэтам, воспевающим невыразимое. Но этим поэтом Еременко всего лишь мог стать – но не стал.
Безусловно, можно было бы пофантазировать на тему того, каким мог бы быть тот поэт, который только намечался в стихах Иерониму Босху. Но нужно заметить, что у этого поэта был мощный конкурент, который изначально работал на том же поле.
«От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи».
«Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговорить впусти».
Это Бродский середины семидесятых. Прямые пересечения. Новый Еременко появился, огляделся – и предпочел уйти в сферу невыразимого, тем более, что это полностью соответствовало его представлениям о том, в какой форме осуществляется свобода.
Другие статьи в литературном дневнике:
- 24.11.2021. Александр Еременко
- 12.11.2021. Гераклит Эфесский
- 01.11.2021. Геннадий Шпаликов
Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
© Все права принадлежат авторам, 2000-2022 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+
Иосиф Бродский 📜 Север крошит металл, но щадит стекло
Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговаривать ‘впусти’.
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.
И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, ‘прощай’.
Александр Сумароков:
«Поэзия ― любовной страсти дочь И ею во сердцах горячих укрепилась, Но ежели осёл когда в любви горит, Горит, но на стихах о том не говорит.»
Чарльз Лэм:
«Истинный поэт грезит наяву, только не предмет мечтаний владеет им, а он — предметом мечтаний.»
Инна Гофф:
«У поэтов стихи, как дети, рождаются от женщин.»
Поль Элюар:
«Цель поэзии — полезная правда.»
Цицерон:
«Мы ведь знаем мнение величайших ученых, что разные отрасли знания требуют изучения и наставления, поэтическую же способность создает сама природа, и поэт творит из своего духа и в то же время как бы вдохновляется свыше.»
Генрих Гейне:
«Весь мир надорван по самой середине. А так как сердце поэта — центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться. В моем сердце прошла великая мировая трещина.»
Элиас Канетти:
«Подлинные поэты встречаются со своими персонажами лишь после того, как создали их.»
Томас Стернз Элиот:
«Поэзия — превращение крови в чернила.»
Михаил Савояров:
«Поэзия ― она как рвота. Попробуй, удержи её, Зажми хоть рот, стяни живот, Но всё равно прорвётся, пронесёт. И дырочку ― найдёт.»
Константин Георгиевич Паустовский:
«Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель.»
Шарль Рамю:
«Поэт — самое одинокое и наименее одинокое существо на свете.»
Владимир Галактонович Короленко:
«Стих прежде всего — гармония.»
Джон Ките:
«Поэт — самая непоэтичная из божьих тварей, ибо он лишен своего липа: он вечно стремится заполнить собой инородное тело.»
Мэтью Арнольд:
«Что может быть хуже для прирожденного поэта, чем родиться в век разума!»
Демокрит:
«Все, что поэт пишет с божественным вдохновением и святым духом, то весьма прекрасно.»
Марселен Бертло:
«Искусство и поэзия достигают полного развития только благодаря тесному союзу их руководящих представлений с теми познаниями о природе и реальности, которые достигнуты наукой.»
Афанасий Фет:
«Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик.»
Готхольд Эфраим Лессинг:
«Я давно уже считал, что двор — не место для поэта, который должен изучать природу. Но если пышность и этикет превращают людей в машины, то обязанность поэта — снова сделать из этих машин людей.»
Вильгельм Дильтей:
«Нельзя постичь жизнь поэта без знания процесса воображения.»
Федерико Гарсиа Лорка:
«Поэтический образ — это всегда трансляция смысла.»
Сэмюэл Джонсон:
«Знание предмета для поэта то же, что прочность материала для архитектора.»
Томас Стернз Элиот:
«Истинная поэзия воспринимается прежде, чем понимается.»
Генрих Гейне:
«Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, но уже второй был олухом.»
Ханс Георг Гадамер:
«Когда легко написать хорошее стихотворение — трудно сделаться поэтом.»
Антоний Слонимский:
«Стихи могут быть без ритма, стихи могут быть без рифмы, стихи могут быть без смысла. — но нельзя, чтобы все сразу в одном стихотворении.»
Сэмюэл Кольридж:
«Проза – это слова в наилучшем порядке, а поэзия – наилучшие слова в наилучшем порядке.»
Пол Четфилд:
«Поэзия — музыка мысли, доносимая до нас в музыке языка.»
Константин Мелихан:
«Первым поэтом был тот, кто сравнил женщину с цветком, а первым прозаиком – тот, кто сравнил женщину с другой женщиной.»
Иосиф Бродский:
«Поэт – средство существования языка.»
Лев Николаевич Толстой:
«Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает Настоящий поэт сам невольно и страданьем горит, и жжет других, и в этом все дело.»
Аристотель:
«Поэзия — удел человека или одаренного, или одержимого.»
Поль Валери:
«Стихотворение есть растянутое колебание между звуком и смыслом.»
Владимир Галактионович Короленко:
«Поэтический язык — краткий, сжатый, картинный и музыкальный.»
Анатолий Васильевич Луначарский:
«Поэзия не может не быть поэзией своего времени и должна быть ею. Но тот, кто выражает черты своего времени, роднящие его с будущим, оказывается бессмертным.»
Перси Биш Шелли:
«Поэт смотрит на пороки современников как на временное облачение для своих созданий, прикрывающее, но не скрывающее их извечную гармонию.»
Осип Мандельштам:
«Эти ваши стихи можно удалить из моего мозга только хирургическим путем.»
Вольтер:
«Поэзия — музыка души.»
Платон:
«Поэт — существо легкое, крылатое и священное, и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка.»
Альфред Адлер:
«Поэты лгут, но их ложь приятна.»
Сэмюэл Тейлор Кольридж:
«Ни один великий поэт не может не быть одновременно и большим философом.»
Михаил Гаспаров:
«Мы уже в том возрасте, когда любят не поэтов, а стихотворения.»
Роберт Браунинг:
«Ты хочешь, чтобы твои песни не умерли? Пой о сердце человека.»
Осип Брик:
«Отличие хороших стихов от плохих. В хороших стихах запоминаются хорошие строчки, а в плохих —плохие.»
Мигель де Сервантес Сааведра:
«Не следует обращать внимания на крохотные пятнышки на лучезарном солнце: пусть лучше подумают о том, сколько пришлось пободрствовать Гомеру, чтобы создать произведение, в котором так много света и так мало теней.»
Бенджамин Джонсон:
«Не всякий, кто может писать стихи, — поэт.»
Роберт Линд:
«Времена великих прозаиков наступали тогда, когда мужчины брились. Времена великих поэтов наступали тогда, когда мужчины носили бороды.»
Эмиль Золя:
«Великая поэзия нашего века — это наука с удивительным расцветом своих открытий, своим завоеванием материи, окрыляющая человека, чтоб удесятерить его деятельность.»
Иосиф Александрович Бродский
Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель — не мы.
Иосиф Александрович Бродский
Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговаривать «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.
И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
всё отчётливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».
. и разница между зеркалом, в которое вы глядитесь,
и теми, кто вас не помнит, тоже невелика.
Необязательно помнить, как звали тебя, меня;
тебе достаточно блузки, мне — ремня,
чтобы увидеть в трельяже (то есть, подать слепцу),
что безымянность нам в самый раз, к лицу.
Хорошо, что чужие воспоминанья
вмешиваются в твои. Хорошо, что
некоторые из этих фигур тебе
кажутся посторонними. Их присутствие намекает
на другие событья, на другой вариант судьбы —
возможно, не лучший, но безусловно
тобою упущенный.
Я ждал автобус в городе Иркутске,
пил воду, замурованную в кране,
глотал позеленевшие закуски
в ночи в аэродромном ресторане.
Я пробуждался от авиагрома
и танцевал под гул радиовальса,
потом катил я по аэродрому
и от земли печально отрывался.
И вот летел над облаком атласным,
себя, как прежде, чувствуя бездомным,
твердил, вися над бездною прекрасной:
всё дело в одиночестве бездонном.
Не следует настаивать на жизни
страдальческой из горького упрямства.
Чужбина так же сродственна отчизне,
как тупику соседствует пространство.
Когда ты вспомнишь обо мне
в краю чужом — хоть эта фраза
всего лишь вымысел, а не
пророчество, о чём для глаза,
вооруженного слезой,
не может быть и речи: даты
из омута такой лесой
не вытащишь — итак, когда ты
за тридевять земель и за
морями, в форме эпилога
(хоть повторяю, что слеза,
за исключением былого,
всё уменьшает) обо мне
вспомянешь всё-таки в то Лето
Господне и вздохнёшь — о не
вздыхай! — обозревая это
количество морей, полей,
разбросанных меж нами, ты не
заметишь, что толпу нулей
возглавила сама.
В поэзии, как и везде, духовное превосходство всегда оспаривается на физическом уровне.
В этих широтах все окна глядят
на Север, где пьёшь тем больше,
чем меньше значишь.
Не лица разнятся, но свет различен:
Одни, подобно лампам, изнутри
освещены. Другие же — подобны
всему тому, что освещают лампы.
И в этом — суть различия.
Читайте также: